Разное
18 постов
18 постов
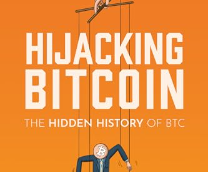
4 поста
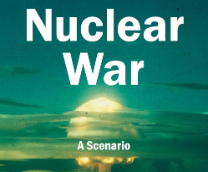
2 поста
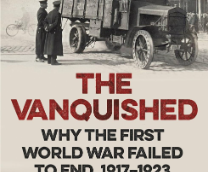
8 постов
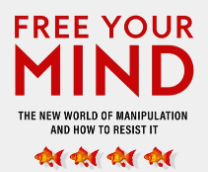
5 постов
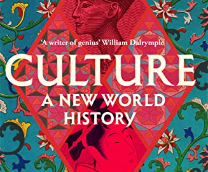
5 постов
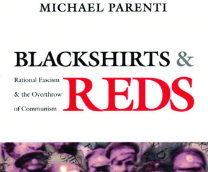
5 постов
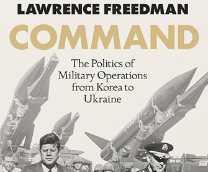
13 постов

2 поста
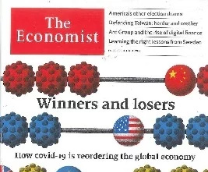
15 постов
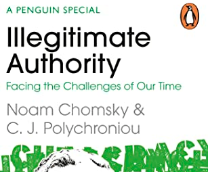
2 поста
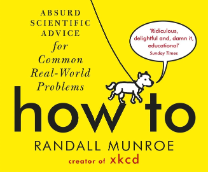
2 поста
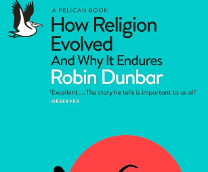
4 поста
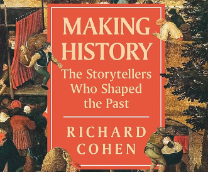
3 поста
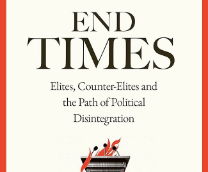
4 поста
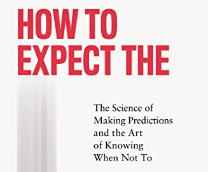
4 поста
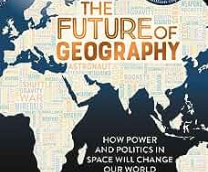
3 поста
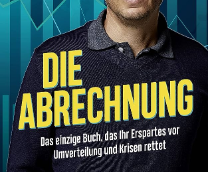
3 поста
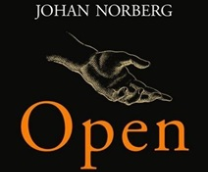
8 постов
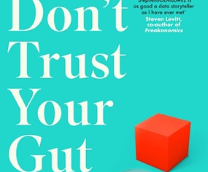
9 постов
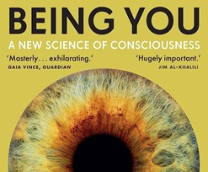
4 поста
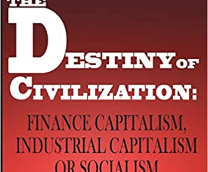
7 постов
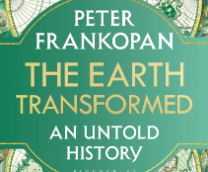
11 постов
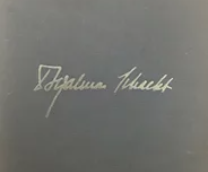
3 поста

3 поста
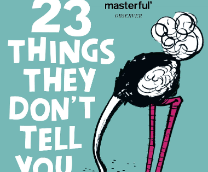
6 постов
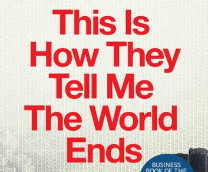
6 постов
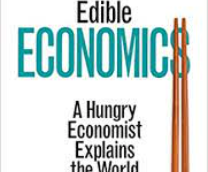
5 постов
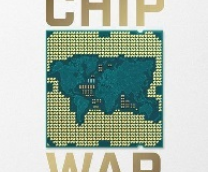
9 постов
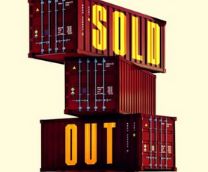
2 поста
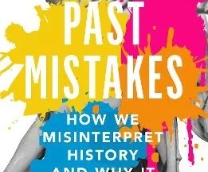
8 постов
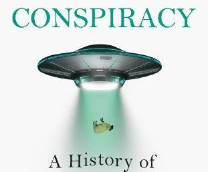
4 поста
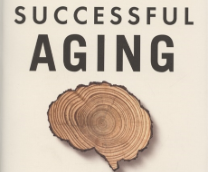
5 постов
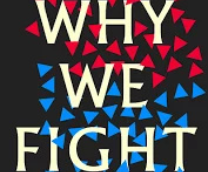
4 поста
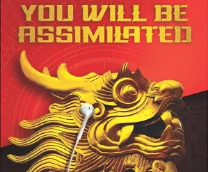
4 поста
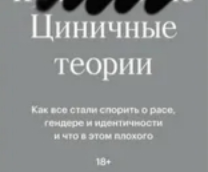
2 поста

2 поста
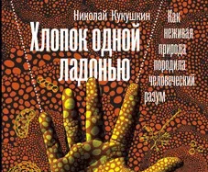
2 поста
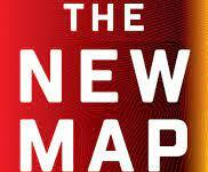
6 постов
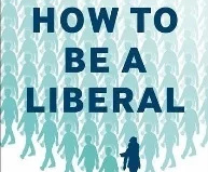
5 постов
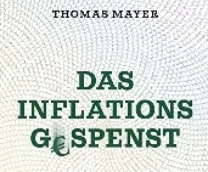
6 постов
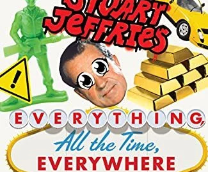
3 поста
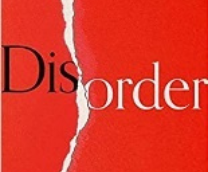
3 поста
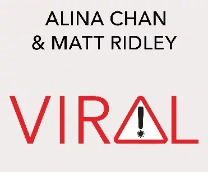
6 постов
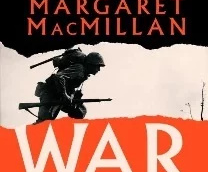
8 постов
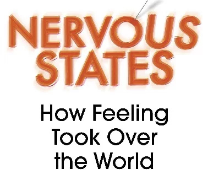
4 поста
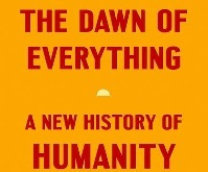
7 постов
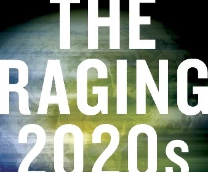
6 постов
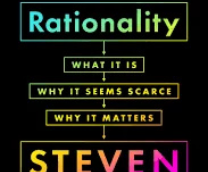
3 поста
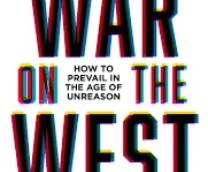
4 поста
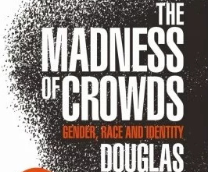
4 поста
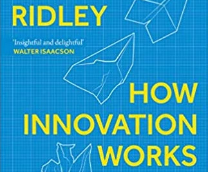
3 поста
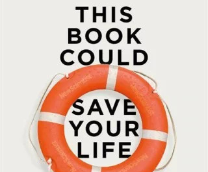
4 поста
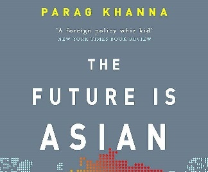
2 поста
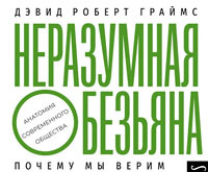
6 постов
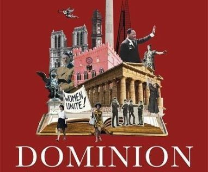
7 постов
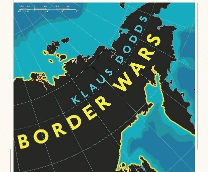
4 поста

4 поста
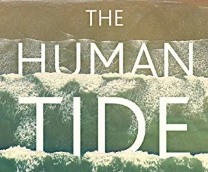
3 поста
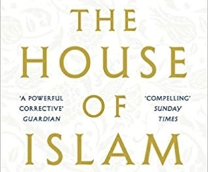
2 поста
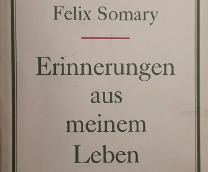
3 поста
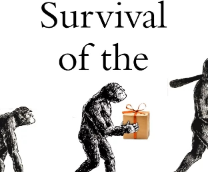
3 поста
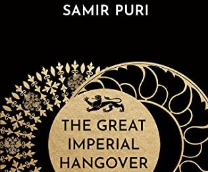
4 поста
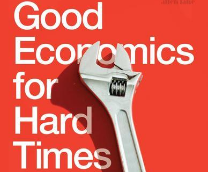
3 поста
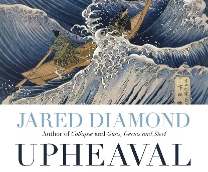
3 поста
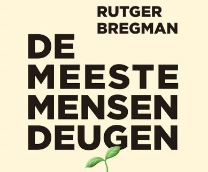
3 поста
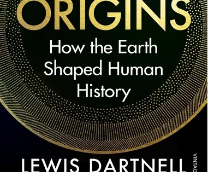
4 поста
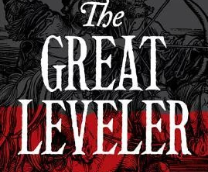
4 поста
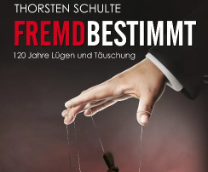
3 поста
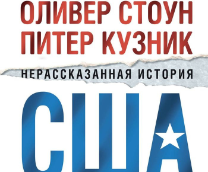
3 поста
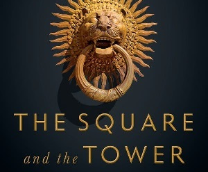
5 постов
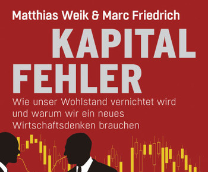
7 постов
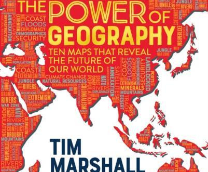
5 постов
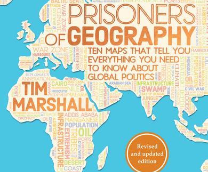
5 постов
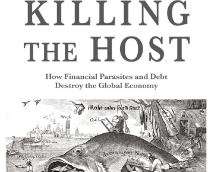
5 постов
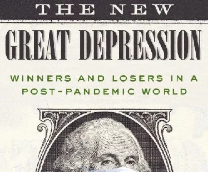
4 поста
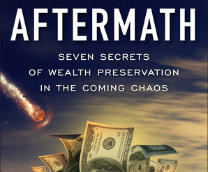
3 поста
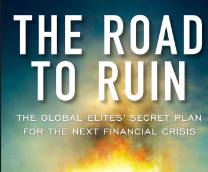
1 пост
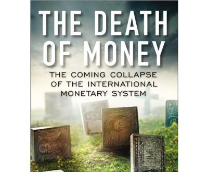
11 постов
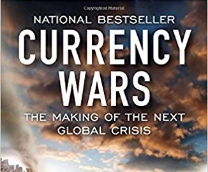
9 постов
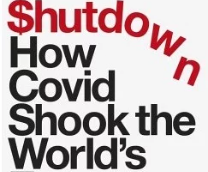
4 поста
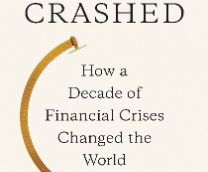
6 постов
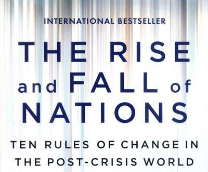
11 постов
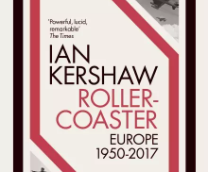
8 постов
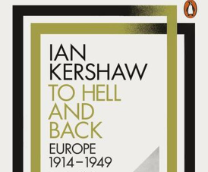
10 постов
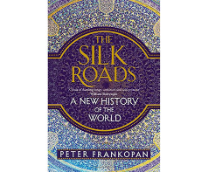
2 поста
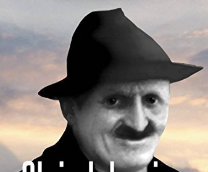
21 пост
За пять лет на Пикабу у меня накопилось столько книжных обзоров, что пришлось привести их в порядок. Найдёте что-нибудь для себя - читайте на здоровье. Надеюсь, вам понравится.
Франкопан. Шёлковые пути. История Азии в контексте связи культур и народов.
Франкопан. Новые шёлковые пути. Куда идёт Азия сегодня.
Франкопан. Преображённая Земля. История планеты в экологическом контексте.
Кершоу. В ад и обратно. Европа в двух мировых войнах глазами британского историка.
Кершоу. Американские горки. Европа в послевоенную эпоху глазами британского историка.
Туз. Рухнувшее. Подробная и, на мой взгляд, непревзойдённая история экономического кризиса 2008 года с рассмотрением причин и последствий.
Туз. Останов. История коронавирусной пандемии под экономическим углом зрения.
Рудлинг. Взлёт и падение белорусского национализма. Увлекательное повествование о рождении белорусской рации. Много нового, неожиданного.
Фергюсон. Площадь и башня. Вечный конфликт ратуши и улицы: из прошлого в будущее. Модный историк продолжает зарабатывать деньги.
Стоун, Кузник. Нерасказанная история США. Оливер Стоун и Питер Кузник дают критический обзор внешней политики США за последние десятилетия. Тут есть над чем поразмыслить. Такой взгляд просто необходим. Если что - это не я сказал, а Горбачёв.
Лебор. Базельская башня. Увлекательная история Банка Международных Расчётов, специализирующегося на скрытных финансовых манипуляциях центробанков.
Дартнелл. Первоистоки. Как внешние обстоятельства планеты обитания сформировали прошлое, настоящее и будущее Homo sapiens.
Даймонд. Переворот. Попытка анализа кризисных ситуаций, в которые попадали разные страны. Разумеется, не без обобщений и рецептов на будущее.
Холланд. Доминион. История формирования западного мировоззрения, начиная с античных времён. Идеи, которыми гордятся европейцы, не возникли в одночасье. Они выросли на навозе христианства. Хотите заглянуть в душу европейцу - почитайте апостола Павла.
Гребер, Уэнгроу. Начало всего. Последняя книга Дэвида Гребера, знаменитого антрополога и анархиста. Глубокий взгляд в историю человечества с целью донести до нас мысль о том, что человек был способен сказать "нет" иерархиям и и просто жить, опираясь на сотрудничество с равными.
Томпсон. Беспорядок. Финансы, энергетика, политика - глубокий анализ недавнего прошлого цивилизации. Как мы пришли туда, где находимся сейчас.
Дант. Как быть либералом. История либерального мировоззрения. Почему либерализм сегодня в кризисе и как этот кризис преодолеть.
Маунтин. Прошлые ошибки. Разбор нескольких исторических мифов и мистификаций. Не без политики, но в меру. Автор изучал национализм и хорошо разбирается в вопросе.
Миллер. Микросхемная война. Обзор индустрии микроэлектроники с момента её появления и до сегодняшних дней. Рост и падение гигантов, шансы на будущее - очень толковая книга, написанная знакомым с "нужными" людьми неспециалистом.
Перлрот. Так кончится этот мир. Кибертерроризм и всё, что с ним связано. Попытка взглянуть на малопрозрачный мир эксплойтов, атак и кибершпионажа. Написано журналюгой "Нью-Йорк Таймс", и этим всё сказано.
Чанг. 23 вещи. Разбор кучи вещей, о которых у обывателя порой неправильное мнение. Развенчиваются популярные мифы. Автор раскрывает глаза на суть современного капитализма.
Чанг. Как работает экономика. Популярное изложение главных школ современной экономической мысли. Непредвзято.
Чанг. Съедобная экономика. На примере разной еды обсуждаются важные экономические вещи. Много познавательного и пищи для ума.
Шарма. Взлёты и падения. Попытка оценить будущее ведущих экономик мира при помощи оригинальных критериев автора.
Рикардс. Валютные войны. Обзор финансовых военных действий, начиная с Великой Депрессии. Мировой бестселлер.
Рикардс. Смерть денег. Что не так в мировых финансах и чем это нам грозит.
Рикардс. Дорога к краху. Скоро (в 2018 году) грянет страшный кризис или так дальше жить нельзя.
Рикардс. Последствия. Как будет протекать и чем закончится экономический Армагеддон. И, конечно, как пережить его с наименьшими потерями.
Рикардс. Новая Великая Депрессия. Ух! Коронавирус! Годная критика мер по борьбе с пандемией, предположение об искусственном происхождении вируса, а также попытка предсказать последствия для экономики (см. название книги).
Рикардс. Распродано. Мировая логистика пытается выдержать удары, не разваливаясь. На волне перебоев с поставками автор в очередной раз пророчит кризис.
Хадсон. Убивая носителя. Анализ мировой экономики с точки зрения критика финансового капитализма. Всему виной паразиты, которые жонглируют финансами, страховками и недвижимостью. Надо бы их прижучить и раскулачить.
Хадсон. Судьба цивилизации. Серия лекций с описанием исторических сложившихся современных схем эксплуатации, мешающих развиваться мировой экономике. Есть рецепты по изменению ситуации.
Вейк, Фридрих. Капитальные ошибки. Описание сути современной экономической системы с предложениями по исправлению ситуации (спойлер: нужно перестроить финансы).
Кригер. Денежный базар. Старая, но интересная книга о работе мировых финансовых рынков, написанная известным валютным спекулянтом. Исторические экскурсы о том, как объединились рынки капиталов.
Шайдель. Великий уравнитель. Мировое неравенство и что на его влияет. Прогноз неутешительный: уменьшается оно как правило после войн и катастроф разного рода, но не в результате реформ.
Банерджи, Дюфло. Хорошая экономика для трудных времён. Типично левый анализ мировой экономики от нобелевского лауреата с типично левыми предложениями по её улучшению. Обложим всех паразитов налогами, и наступит благоденствие.
Майер. Призрак инфляции. История денег и их непрестанного обесценивания. Нас тоже не минёт чаша сия. Взгляд экономиста австрийской школы.
Маршалл. Узники географии. Десять карт, рассказывающие всё, что нужно знать о глобальной политике.
Маршалл. Сила географии. Десять карт, раскрывающие будущее мира. По следам успеха первой книги, но тоже годно.
Шульте. Под внешним влиянием. Как Германия страдает под американской пятой. Немцам не стоит стесняться своего прошлого. Залог процветания - дружба с Россией.
Баллог. Страна денег. Офшоры, олигархи и тому подобное. Как ведутся тёмные делишки мировой экономики.
Пури. Великое имперское похмелье. Рассказ о величайших империях мира с приложением к современной ситуации.
Вагенкнехт. Самоуверенные. Что мы имеем сегодня в лагере левых и как выйти из этой незавидной ситуации.
Доддз. Пограничные войны. Границы и всё, что с ними связано в контексте геополитики.
Ханна. Будущее принадлежит Азии. Оглянитесь - и увидите: иного и быть не может. Азиаты уже догнали Европу и не собираются останавливаться на достигнутом.
Мюррей. Безумие толпы. Точно и ясно о "повесточке" с гендером, расами и прочим. Кто-то должен был это написать, и одним из первых был Мюррей.
Мюррей. Война против Запада. Как современные борцы за равноправие рушат страны, их вскормившие.
Ричел. Вскрытие пандемии. Как мировые политики под предлогом борьбы с коронавирусом проворачивают свои делишки, а коронаскептики не верят в очевидные вещи.
Росс. Неистовые двадцатые. Нехорошая ситуация сложилась на Западе и в целом в мире. Надо что-то делать, иначе будет ой-ой-ой. Традиционные левые рецепты по обузданию мировой олигархии. Удивительно, но этот человек работал на Хиллари Клинтон.
Дэвис. Нервные состояния. Одна из книг, написать которую заставили победы популистов (Брекзит, Трамп). Как они добиваются успеха и как им противостоять (их же оружием: разжигать страсти).
Ергин. Новая карта. Недавняя история геополитических событий с упором на энергию и энергоносители. Какие вызовы стоят перед нами и какими инновациями мы можем воспользоваться.
Плакроуз, Линдси. Циничные теории. Подробный обзор новомодных левацких течений, начиная с постколониалистов и кончая трансгендерами. Их мир надо знать, чтобы уметь ответить.
Голдман. Вас ассимилируют. Как Китай собирается без единого выстрела завоевать мир. Автор знает, о чём пишет и заставляет задуматься.
Блэттман. Почему мы дерёмся. Война - очень плохая вещь, но снова и снова их развязывают. Почему? Потому что стремятся получить больше, чем потеряют. А потом оказывается, что не так это просто, как казалось. Но назад дороги нет, и приходится искать дорогу к миру. Находят не все и далеко не сразу.
Эял. Бунты. Хорошая ж вещь - глобализация, или? Надо просто исправить то плохое, что в ней есть. Взгляд из Израиля.
Брегман. Утопия для реалистов. К чему стоило бы стремиться современному человеку. Идеи из левого лагеря.
Брегман. Добрые внутри. Каков человек по природе - добр или зол? Автор голосует за первую опцию.
Хейр, Вудс. Оригинальный взгляд на эволюцию человека, согласно которому человек развился в общественное животное, склонное к кооперации.
Морлан. Людской прилив. Прошлое, настоящее и будущее в контексте демографии.
Граймс. Неразумная обезьяна. Дезинформация, конспирология, пропаганда - мы все падки на это. Почему это так и как этому противостоять.
Лоутон. Эта книга могла бы спасти вам жизнь. Как жить дольше и лучше. Обзор современного состояния науки о здоровье с критикой хайпа и отбором действительно полезных вещей.
Ридли. Как работает инновация. Рассмотрение истории появления разных прорывных вещей с попыткой анализа того, что продвигает, а что тормозит инновацию.
Пинкер. Рациональность. Почему мы принимаем решения не всегда на основе логического анализа. Написано с претензией, но получилось не очень.
Макмиллан. Война. Рассмотрение феномена войны и его влияние на человека. Есть многое, о чём забывается в мирное время. Но которое всегда остаётся с нами. Очень интересный взгляд на разные аспекты войны и всего, что с ней связано.
Чан, Ридли. Вирус. Пандемия Covid-19. Результаты расследования интернет-активистов об искусственном происхождении вируса.
Кукушкин. Хлопок одной ладонью. Человеческая эволюция в популярном изложении учёного-биолога.
Ричи. Научные вымыслы. Халтура, подлог, мухлёж - всего этого навалом в современной науке. Потому её авторитет оказывается иногда подорван. Есть предложения по исправлению ситуации. Как по мне - недостаточные.
Левитин. Счастливое старение. Процесс старения глазами нейробиолога. Много ценных советов о том, как успешно провести осень жизни. Не всё так мрачно, как видится.
Филлипс, Элледж. Заговор. Рассказ о конспирологии и конспирологах. Хороший обзор всяких бредовых теорий. Доставляет.
Мюллер. Верь малому. Как читать современную прессу и не попасться на удочку пропаганды.
Зомари. Воспоминания. Его называли "цюрихским вороном" - так точно он предсказывал мрачные события. Он же был умнейшим человеком и очень способным банкиром, блестяще прошедшим все передряги неспокойной эпохи. Много деталей, объясняющих те события и раскрывающих угол зрения людей тех лет.
Шахт. 76 лет моей жизни. Воспоминания банкира, обеспечившего взлёт Третьего Рейха. Этот хитрый лис вовремя спрыгнул и избежал наказания, попав на скамью подсудимых в Нюрнберге. Пару-тройку лет он всё-таки отсидел, и, я думаю, не зря.
Ирвинг. Война Гитлера. Фюрер надеялся, что когда-нибудь появится британец, который напишет историю Третьего Рейха так, как бы сделал он сам. И он появился, этот британец, который перевернул кучу документов и описал шаг за шагом историю этой неоднозначной персоны. Куча интересных нигде не упоминаемых фактов.
Джеффрис. Всё, всегда, повсюду. Постмодерн - как он появился, вырос и умер. А может, не умер? И кому он был нужен?
The Economist. Интересные факты и истории со страниц всемирно известного журнала.
Наварро. Я вижу, о чём вы думаете. Язык тела и как его истолковывать. В жизни пригодится!
Глаудуэлл. Разговор с незнакомцем. Журналюга надёргал жареных историй и пытается сделать из них многозначительный вывод: мы плохо знаем людей.
Восс. Никаких компромиссов. Искусство ведения переговоров. Главный секрет: поменьше уступать и стоять на своём. Неудивительно, ведь автор общался в основном с террористами.
Что увидел Алоис Не успела окончиться Вторая, как один немец увидел Третью мировую.
Продолжаем знакомиться с книгой Уильяма Дэвиса "Нервные состояния".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: военная тема пропитывает гражданскую жизнь. А на войне главное - быстрота информации, неважно, всё ли верно. И чтобы боевой дух был. Весьма похоже на современную политику. И на бизнес, живущий по либеральным рыночным законам, где выживает сильнейший.
В 2013 году начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов прочитал доклад на тему гибридных войн. Обращаясь к опыту Арабской весны, Герасимов указал на размывание состояния между миром и войной. На Западе доклад приняли за формулирование российской современной стратегии и назвали Доктриной Герасимова.
В самом деле, трудно отличить современный мир от войны. Военные действия требуют знаний, и эти знания отличаются от "мирных". В войне главное - победить, а не прийти к согласию. Чтобы этого добиться, нужно доставить необходимую информацию в нужные время и место. А также позаботиться, чтобы не было перехвата. Важную роль играют эмоции. Участие в бою требует агрессии, солидарности и веры в своё превосходство, а также расчеловечивания врага. Когда размывается грань между миром и войной, "боевые" эмоции проникают в общество. При этом не только теряется уважение к правде, но и правда сама становится политическим вопросом. Это усиливает несогласие и конфликты.
Современные войны опираются на мобилизацию масс. Первым этим стал заниматься Наполеон. Но он был практиком. Теорию создал его наблюдатель, Карл фон Клаузевиц. Этот прусский офицер сразу оценил огромную силу призывной армии, особенно когда она пропитана национальным духом. Наполеон уделял большое внимание не только баталиям, но и уничтожению вражеских коммуникаций и путей снабжения. Он был не только генералом, но и политиком. Размышляя над этим, Клаузевиц сформулировал самый известный свой тезис:
Война есть продолжение политики иными средствами.
Сегодня идеи Клаузевица живее всех живых. Военная тематика пропитывает гражданские культуру и политику. Война ведётся с террором, с наркотиками, в реальном мире и в киберпространстве. Публичная и экономические сферы всё больше организуются вокруг принципов конфликта, атаки и обороны. Информация в войну чрезвычайно важна. Её трудно получить и ей же рискованно доверять. Потому часто важнее скорость, чем точность. В таких условиях отношение к науке и экспертам в обществе меняется. Старый добрый идеал научного прогресса и требования военного времени оказываются в конфликте. Современная наука развивалась в связке с журналами, практиками цитирования и экспертными оценками. Уберём всё это - и получим уже что-то похожее на конспирологию.
По Клаузевицу, исход войны определяют три главных фактора: управление, военный элемент, а также эмоции. Чтобы физически разрушить врага, необходимо пропитать своих определённым эмоциональным духом. Ещё Наполеон говорил, что неважно то, что верно. А верно то, что у людей в головах. По мере роста деструктивного потенциала войны выросла и роль морального духа. Есть одна эмоция, которая, согласно Клаузевицу, может быть преобразована в военный ресурс: ненависть. Она появляется не после славных побед, а после разрушительных поражений. Потери формируют нашу идентичность и "печальное чувство ностальгии". Карл жаловался, что миролюбивые страны - это те, кто уже добились триумфа, и в этом - их слабость.
Скорость информации важна и в бизнесе. Там, где знание предоставляет конкурентное преимущество, научный идеал касательно общественного согласия по поводу фактов испаряется. В результате каждый накапливает и эксплуатирует свои собственные факты. Работать надо быстро и целенаправленно. Всё - по канонам свободного рынка. Который получил обоснование трудами австрийской школы экономистов.
Людвиг фон Мизес, а также его последователи питали глубокую антипатию к социалистическим идеям. Мизес даже до определённого времени видел фашизм допустимым средством для сопротивления красной угрозе. Он воспевал свободный рынок за его скорость и чувствительность, что приводит к тому, что каждый товар получает свою справедливую цену. Потому рыночная экономика работает лучше, чем плановая. Она быстрее реагирует на ситуацию. При ней плохие стратегии и технологии быстро банкротятся. Выживает сильнейший, как по Дарвину. Главное для предпринимателя - вовремя оценить, почувствовать и предсказать. То есть иметь правильную и своевременную информацию.
Ученик Мизеса Хайек развил эту идею. Информация, дающая конкурентное преимущество, должна признаваться как частная собственность. Иначе конкурентная игра предпринимательского капитализма не может продолжаться. Тот, кто пытается установить консенсус по поводу фактов, рискует впасть в социализм. Хотите узнать правду? Не обращайтесь к экспертам, а сами собирайте факты: говорите с людьми, предпринимателями, менеджерами. Нечего полагаться на конкретных учёных, нужно смотреть на всю систему, в которой научные концепции сталкиваются друг с другом. Для интеллектуалов либеральной школы, которые считали публичное знание социализмом, имело смысл создание частных сетей с политическими дискуссиями. Коммерческие университеты, частные мозговые центры и прочие консультанты разбивают "интеллектуальный картель экспертов", создавая нечто вроде рынка знаний.
Казалось бы, неплохая идея. Пусть правда пробивает себе дорогу, а лженаука окажется опровергнута. Проблема в том, что это стоит слишком много времени. Более того. Укоренение либеральных идей в экономике сопровождалось снижением потребности в центральных экспертных инстанциях. Но можно идти дальше и сказать, что не только эксперты не нужны, но и сама истина. Рынок - вот истина. Он всё разрулит. А государство - пусть лишь создаёт условия для честной конкуренции. При этом разум остаётся на обочине. Что рулит? Эмоции.
Задача человека - просто делать выбор. Он не должен быть основан на рациональности или каком-то объективном знании. По Хайеку выбор движим эмоциями и импульсом, а что правда, что ложь - рынок решит. Фактов нет, есть тренды и чувства. Путь университетов в век фактов реального времени - реагировать на изменчивый мир, а не искать причины, глядя в корень происходящего. Апофеозом звучит мнение Хайека:
Знание и неведение - относительны.
Проблема в том, что этот радикальный интеллектуальный эгалитаризм не имеет ничего общего с равноправием. Идеология свободного рынка организующим принципом общества делает социал-дарвинизм. Это приводит к раскручивании спирали неравенства. С перспективы либертарианства единственное социальное разделение, что имеет значение - это пропасть между узким меньшинством предпринимателей-визионеров и миллионами подконтрольных им тел. Сегодня влиятельные семьи и частные компании добились неслыханной концентрации богатства, встав в один ряд с акционерным и государственным капиталом. Жизнь в этом дарвиновом мире дискомфортна для всех, включая победителей. Sic transit gloria mundi - это знал и Наполеон. Боязнь смерти вынуждает их накапливать всё больше и больше. Психология...
Окончательным пунктом назначения австрийской идеологии является система, которая уничтожит рынок. Частные империи будут сражаться друг с другом, используя атрибуты, которые присущи не бизнесу, но государствам. Они уже сегодня летают в космос, регулируют рынки и ведут разведку. Новые участники входят в борьбу за право стать олигархами-императорами. Эпицентром борьбы за власть становится Силиконовая долина. О ней - в заключительной части.
-----------------------------
Типичный западный подход. Напридумывать самых разношёрстных причин, которые могут объяснить снижение доверия к науке - и набросать всё в кучу. Это плохо укладывается в голове. При всей весомости доводов всё же остаётся вопрос: Клаузевиц, Мизес и Хайек уже давно в могиле, а доверие к науке упало только в третьем тысячелетии. Что же мешало ему падать раньше?
Продолжаем знакомиться с книгой Уильяма Дэвиса "Нервные состояния".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: Наука помогает обществу двигаться вперёд. Но недостатки и злоупотребления снижают доверие, и люди бегут за популистами. Особенно когда жрать нечего и со здоровьем нелады. Чувство локтя в боевом коллективе многих если не излечит-исцелит, то хоть бы поможет перенести невзгоды.
Казалось бы, сухая и скучная наука - статистика. Мы вынуждены ею заниматься, чтобы не потерять основу для согласия и мира в обществе. Увы, сегодня для многих в обществах Запада она видится служанкой интересов элит, которая предоставляет версию реальности в интересах привилегированных культурных групп. Автор признаёт, что частично в падении авторитета науки виноваты сами технократы, которые "растягивают и сгибают" цифры в угоду политике. Сыграло свою роль и подозрение, которое вызвало участие по идее независимых технократов в политических кампаниях. Кристин Лагард, например, впряглась в ряды агитаторов Брекзит-референдума, убеждая британцев остаться в Евросоюзе. Впечатляющие провалы научного прогнозирования, будь то расчёт риска для облигаций (который послужил одной из причин кризиса 2008 года) или прикидка шансов на успех Брекзита и Трампа - доверия к сообществу экспертов не добавили.
Чтобы понять, что случилось, Уильям заныривает в историю. Вообще, он любит этим заниматься. Он уже рассказал про Гоббса, Перри и Декарта (который разграничил тело и разум). Теперь очередь дошла до Джона Граунта. Этот успешный мануфактурщик был знаком с Перри, и имел страсть к цифрам. И нашёл сферу приложения своей страсти, суммируя случаи смерти из записей лондонских приходов. На основе временного промежутка в семидесят лет он вычислил вероятность смерти для определённого возраста, а значит - и продолжительность жизни. После публикации Королевское общество пригласило его в свои ряды. Но успех был не только академический. Результаты первого в мире демографа имели конкретный практический интерес. Ведь каждый суверен, планируя военную компанию, должен иметь возможность прикинуть, сколько граждан он сможет поставить под ружьё. А ещё нужно оценивать способность нации создавать богатство, с которого потом будет уплачен налог в казну. Так с помощью демографии человеческое общество обзавелось определённой предсказуемостью. Но если мы смотрим на общество, как на машину, то и каждая его частичка должна работать предсказуемо. ( Не согласен! И в хаосе находят порядок.)
Недельный листок смертности в Лондоне 1665 года.
Национальная статистика может рассказать, становится ли страна богаче, растёт ли её население, и как обстоят дела с торговлей. Она позволяет нам отследить путь прогресса от прошлого с его неведением и предрассудками в будущее со свободой и разумом. Числа позволяют нам видеть мир объективно. Но обратной стороной монеты является их бесчувственность. Мы оказываемся в плену цифр, стремясь к их непрестанному улучшению. Разумеется, этим пользуются недобросовестные политики, производя статистику, служащую их интересам. Эти манипуляции до поры до времени остаются незамеченными, но, накапливаясь, ведут к кризису экспертизы.
Если взглянуть на официальную статистику США - всё в шоколаде. Чего не скажешь о жизни рядового американца. Часть ответа кроется в неравенстве. Суммарные цифры скрадывают картину. Миллиардеры продолжают богатеть, в то время, как половина населения не испытывает экономического прогресса вот уже сорок лет. Неравенство имеет и географическое измерение с его депрессивными регионами Среднего Запада и Юга и процветающими побережьями. Та же фигня в Британии. Короче, прогресс для кого-то ускорился, а для кого-то - исчез. Перемены в экономической географии способствуют возрождению национализма. Можно сколько угодно говорить о благотворности торговли, но у процесса глобализации есть конкретные проигравшие, и таковых много. Иммигранты восхваляются с их позитивным вкладом в экономику. Но они же конкурируют за рабочие места с бедняками-аборигенами. Итогом такого расхождения между благостными картинками экономической прессы и незавидными перспективами очень многих является падение доверия к "цифровому правительству экспертов".
Это ценное наблюдение автора. Но тогда получается, что Трамп и Брекзит - вполне заслуженные явления. Можно сколько угодно говорить о недостатках статистики, что она не принимает в расчёт чувства и просто рассортировывает людей по категориям. Главное, что продвигает популистов - это падение благосостояния народных масс.
К экономической элитарности добавляется элитарность культурная. Образованная элита зарабатывает головой, извлекая пользу из экономики знаний. Самооценки работяге с кувалдой это явно не добавляет. Депрессивные регионы с горами ржавого оборудования не просто так именуются депрессивными. В то же время политика становится изолирована от основных инстинктов, касающихся несправедливости, наказания, страха и безопасности. Технократы на них внимания не обращают, но они есть.
Автор пишет, что внесение эмоций в политику вызывается ещё одним важным феноменом: ухудшением физического состояния. Человеческое тело стало объектом для альтернативных моральных, эмоциональных и политических перспектив. Но люди всё меньше хотят отдавать проблемы со своим здоровьем для решения научным сообществом.
Когда-то давно со здоровьем была беда. Было обычным делом давать имена умерших детей новорожденным, да ещё заставлять их носить оставшуюся одежду. Люди утешались религией и видели болезни и смерть наказанием за грехи. На закате Научной Революции Френсис Бэкон сформулировал новое видение:
Во-первых, сохранение здоровья, во-вторых, излечение от болезней, и в-третьих, продление жизни.
С помощью науки и техники дело быстро пошло на поправку. Декарт провозгласил раздельность разума и тела, сделав последнее объектом для исследования. Падение табу на вскрытие трупов ускорило прогресс медицины. Мы стали отказываться от определённых ритуалов и верований во имя продления нашей жизни. И если сегодня кто-то идёт в обратную сторону, то это говорит о том, что правительства и эксперты не сдерживают своих обещаний здоровья и долголетия. Трамп - президент больных и немощных, это факт. Растущая смертность белых среднего возраста, а также в депрессивных регионах - тоже факт. Так же и в Британии с Брекзитом. Меры бюджетной экономии ударили по здоровью населения и в южной Европе.
Если человек болен - у него и настроение плохое. Боль действует через психосоматику. Далее, потребительская ментальность, которая требует полного удовлетворения, делает боль менее выносимой. Если раньше доктора не очень беспокоились о "качестве жизни" пациента, то, начиная с шестидесятых, облегчение боли стало моральной обязаностью. Сегодня уже никто не говорит, подобно святошам, об исцеляющей, дисциплинирующей силе боли.
Следствием этого процесса стало широкое распространение опиатов в медицине. В период с 1980 по 2011 годы их стали выписывать в 35 раз больше, при этом 90% - в развитых странах. Параллельно учёные стали понимать, что тело и разум - всё-таки связаны через боль. Как становятся связаны и медицина с политикой. Физическое здоровье перетекает в эмоции, которые выбрасываются в общество.
В состоянии постоянной опасности наши нервы привыкают. При стрессе адреналин в крови заставляет нас реагировать по типу бей или беги. Когда всё кончилось, в кровь попадает кортизол, который восстанавливает нормальное состояние. Однако, если стресс очень сильный или очень частый, тело привыкает и не выделяет кортизол, как обычно. Человек живёт, как будто на пороховой бочке. Это называется ПТСР. При нём человек уже не стремится к здоровью и благосостоянию. Людей с ПТСР можно встретить в среде ветеранов. Но его можно часто встретить и у обычных людей. Можно даже иногда обнаружить, отняв смартфон у человека. Среди причин автор называет экономическое неравенство и чувство безвыходности. В таком состоянии люди могут обратиться к авторитаристам за решением.
Решением для многих служат опиаты. Наркоман не чувствует бессилия во время приёма, и это имеет значение. Его и боль и травма для него в этот момент под контролем. В период между 1999 и 2017 годами от их передоза умерло свыше 200 тысяч американцев: более чем втрое больше, чем во Вьетнаме. Уильям говорит нам в этой связи:
Есть нечто хуже боли, и это - полная потеря контроля.
Многие предпочитают быть причинителем вреда, чем жертвой, даже если вред причиняется себе самому.
Страдающий человек ищет понимания и сочувствия. Популисты помогают преобразовать страдания в ненависть. В воображении националиста война предлагает чувство общности и эмоциональной эмпатии, которые не найдёшь при мире и демократии. Она принесёт всё: признание, объяснение и поминовение. Одним из парадоксов национализма является то, что национальное сознание разжигается образами не столько героических побед, сколько трагических поражений. Ранение, полученное в бою, не так болит, как производственная травма. Война привлекает тем, что в ней чувства имеют значение.
------------------------
Изложено увлекательно, но неубедительно. Объяснить рост популизма недостатками статистики - это что-то новое. Ещё и историю науки приплёл неизвестно почему. На самом деле не недостатки, а манипуляции - вот, что вызывает протесты. Виноваты не учёные, которые якобы не могут рассчитать инфляцию, как надо. А политики, вносящие правила, снижающие её цифры. Эти манипуляции приукрашивают действительность. Когда действительность эта для многих мрачна - то и депрессия, и стресс, и болезни - всё это приходит. Люди ищут выход - и находят его. Ничего нового.
Доброго времени суток, уважаемые.
Трамп и Брекзит нанесли сильный удар по самодовольным западным элитам. Сразу начались попытки осмыслить подъём иррациональности и популизма. Ведь чтобы победить, надо понять. Одной из таких попыток является книга Уильяма Дэвиса "Нервные государства состояния".
Книга носит подзаголовок "Как чувства захватили мир". Есть перевод, можно ознакомиться. Я читал в оригинале.
Коротко для ЛЛ: Что предопределяет успех популистов? На что они упирают? На чувства! Человеку думающему трудно попасть на удочку горлопана-демагога. Сегодня чувства выходят на первый план. Разум уходит на второй. Мы погружены в поток образов и ощущений. Эмоции мешают судить об экономике, обществе, собственном теле и природе. Индикаторы прогресса "сбоят" и неадекватны. Скорость информации становится важнее её верности. Размеренный и тщательный научный метод не в моде. Что делать? Пользоваться оружием врага.
Мы живём в эру толп. Конечно, феномен не нов. Но со времени прошлого кризиса на Западе он получил свежий смысл существования. Примером много: Occupy, Подемос, СИРИЗА... Социальные сети претворили в жизнь стиль общения, когда многие говорят со многими. Демократия-то работает по-другому. При ней большинство сидит молча и доверяет говорить своим доверенным лицам. Современный человек делает это всё более неохотно. Но, являясь частью толпы, он подвержен влиянию.
Толпами занимались многие социологи. Одним из первых был Гюстав Лебон. Он считал, что толпа обнажает подавленное в обычных условиях "опасное подбрюшье цивилизации". Толпа - единый организм, у которого есть нервная система и который можно заразить идеями и эмоциями. Это свойство - распространение идей - является ключевым. Современные дельцы давно это просекли, изобретя вирусный маркетинг. Политики не отстают, действуя путём слабых, но точных вбросов. Лучше всего работают не слова, а картинка или "физика". Потому Интернет с его визуальными техниками так важен для мобилизации толпы. При этом ложь продвигается быстрее установленных фактов. Особенно мощной силой являетя страх. Чувство опасности вызывает растущее стремление к безопасности. Автократы пользуются этим, утоляя его угрозами вовне.
Следствия этого нам знакомы. Социальные сети становятся местом баталий, военизируется сам язык. Публичные дебаты выстраиваются вдоль линий фронта, которые чертят идеологи-шовинисты, чтобы запугать своих оппонентов. Те, кто взывают к голосу разума, оказываются под огнём. Популисты говорят, что все эти якобы независимые журналисты, судьи, эксперты, на самом деле потворствуют всегда "своим", защищая при этом доставшиеся им привилегии. То есть климатологи "спят в одной кровати" с Гринписом, экономисты с презрением смотрят на тех, кто не видит пользы в свободном рынке. Все они - лицемеры.
Лжецами восхищаются в те времена, когда политическая система начинает терять доверие. "Не от моего имени!" - лозунг, которым собирает своих сторонников Марин Ле Пен. Что делать в таких условиях экспертам и профессионалам? Отстраниться - прослывёшь "холодным". Станешь живо топить за кого-то - окажешься не лучше своих критиков. Но выхода нет. Когда-нибудь приходится выбирать сторону. Сегодня эксперты не ограничены стенами университетов, а сидят в креслах центробанков и правительств. В СМИ их называют "технократами".
Исторически появление научной экспертизы было обусловлено не только стремлением к знаниям, но и желанием мира. Так во всяком случае можно истолковать Гоббса, который представлял общество как войну всех против всех и стремился найти внешнего арбитра в этой борьбе. Гоббс невысоко ценил человеческие качества, в числе которых он отмечал излишнюю самоуверенность. Каждый склонен думать о себе, как самом лучшем и ценном члене общества. А уж если в руках оружие... Что делает насилие неизбежным - это, однако, не агрессивность, а то, что на деле большинство людей слабы и трусливы. Да, насилие - продукт страха.
Но больше всего люди всё-таки боятся смерти. Чтобы её избежать, надо найти способ избежать насилия. Нужна третья сторона, которую Гоббс называл "сувереном". Как результат, люди боятся не столько друг друга, сколько этого суверена. Уже во времена Гоббса стал нарождаться узкий класс опытных людей, которые занялись сбором и публикацией открытий в прикладных науках. Опыт по-английски - experience, и их позднее стали называть экспертами. Они утверждали, что, вместо суверена, можно доверять им. А вернее специальным измерительным инструментам и техникам. Научно-техническая революция изменила природу доверия. Стали доверять не патриарху или монарху, а собранным, записанным и опубликованным фактам. По иронии судьбы, сам Гоббс был не очень высокого мнения касательно Королевского общества. Эти элитарии его самого туда не приняли. Надо сказать, что члены Общества были дженльмены. Они чувствовали высокую моральную ответственность, особенно если речь идёт о преследовании истины.
В наши дни у многих создалось впечатление, что обещание правительств и экспертов бескорыстно исполнять свои обязанности стало фальшивым. Особенно когда невозможно точно сказать, кто есть эксперт: беспристрастный наблюдатель или технократ-правитель. Происхождение технократии автор выводит из необходимости применения научных знаний в государственных целях. Прежде всего для ведения войн, а также для управления обществом. Первым технократом автор называет Уильяма Петти. Свой метод он объяснял так:
Вместо использования лишь сравнительных и превосходных понятий и интеллектуальных аргументов я стал выражаться при помощи Числа, Веса и Меры; использовать только аргументы восприятия и рассматривать лишь те случаи, которые можно наблюдать в природе.
Увы, наследники Петти слишком часто стали навлекать ненависть как самодовольная либеральная элита. История экспертизы оказалась тесно связана с историей колониализма и рабства. Ведь тот, кто желает овладеть миром, неизбежно вначале должен его изучить. Сегодня на технократов-правителей часто глядят не иначе: как на проводников колониального господства. Наиболее чётко это можно наблюдать в Евросоюзе. Элиты хвалят ЕС за то, что он позволил достичь мира, в то время как остальные более склонны видеть открытые границы, иммиграцию, беженцев и единую валюту. Мир не избавил людей от страха. Особенно если благосостояние не растёт. Вернее, растёт, но не у всех. Государство в его экспертами-правителями становится в глазах его критиков игрой, в которую играет ограниченный круг инсайдеров.
----------------------
Не сказать, что неинтересно, но уж очень много воды. И на стройный анализ мало похоже. Да, толпа подвержена чувствам. Здесь ещё можно понять логику. Но почему люди перестают верить экспертам уже сегодня, а не сделали это вчера? На этот вопрос я не нашёл ответа. Вернее, он есть, но автор его ответом не считает, а вкладывает в уста популистов, которых он заочно объявляет лжецами.
Он гласит: слишком часто технократы оказываются лицами заинтересованными. Эксперт тоже хочет есть, и ему кто-то платит зарплату. В конце концов, для высказывания мнения эксперту должен быть обеспечен доступ к СМИ. Которые очень часто или в частных руках, или напичканы всевозможного рода лоббистами. Если раньше львиная доля экспертного сообщества была связана с государством, то сегодня частник сидит и в науке, и в советниках у ответственного лица. Так что, несмотря на высокий процент лжи у популистов, что-то из того, что они говорят - правда.
Есть вещи, которые полезно знать. К таким относится умение читать невербальные жесты. Этому посвящена книга эксперта ФБР Джо Наварро, который собаку съел на этом деле и готов поделиться с нами своими секретами.
Книжка вышла уже давно, переведена на русский, и её нетрудно найти. Она небольшая, читается легко, потому советую ознакомиться. А кому недосуг - изложу кратенько главное.
Коротко для ЛЛ: тело лжет намного меньше, чем рот. Смотрите на него и читайте скрытые послания, отправлять которые говорящий не всегда и рад.
Наверное, нет смысла объяснять, как чтение позы и мимики человека может помочь нам в жизни. Чтобы осилить это искусство, Джо предлагает нам сначала свои десять заповедей. В них он советует нам быть наблюдательными, обращать внимание на контекст, стараться распознавать общие и индивидуальные черты поведения, смотреть на множественные сигналы, обращать внимание на изменения в поведении и учиться отличать правду от лжи. И стараться делать это незаметно, а не пялиться во все глаза!
Наши мозги - сложное наследие, доставшееся нам от предков. Они реагируют на внешние обстоятельства и далеко не всегда делают это сознательно. Как результат, человек представляет собой раскрытую книгу, которую можно научиться читать. Эволюция научила нас трём основным типам реакции. Мы можем замереть, почувствовав себя беззащитными. Или пуститься в бегство. Или вступить в борьбу.
Замирая, мы уменьшаем амплитуду своих движений и вжимаем голову в плечи. И задерживаем дыхание. И это заметно, особенно на фоне остальных. Когда Вы увидели человека в таком состоянии, знайте: у него стресс. Если Вы не знаете его причины - время прояснить обстоятельства.
Дискомфортная ситуация вызывает в нас подсознательное желание уйти. Но не всегда можно это сделать. И приходится как-то приспосабливаться. Люди отклоняют своё тело от нежелательных собеседников. Недовольство услышанным может побудить бизнесмена или политика тереть глаза. На самом деле он так загораживается от услышанного или увиденного. Знайте: ему оно не по душе.
Когда уйти не получится, а реагировать как-то надо, можно встать на тропу войны. Человек становится агрессивным, не вступая в физический контакт. В таких случаях мы расставляем ноги, выпячиваем грудь и вторгаемся в чужое личное пространство. Автор советует нам избегать агрессивных жестов. Мало того, что это - средство последней надежны, действуя так, мы теряем самообладание и можем наломать дров.
Человек реагирует при дискомфорте. Но реакция человека может быть направлена на себя. Он прежде всего старается успокоиться. Когда мы успокаиваем детей, мы гладим их, обнимаем. Когда мы успокаиваем себя, то и гладим тоже самих себя. Делаем массаж шеи, гладим щёки и губы изнутри языком. Обнимаем себя. Набираем в себя воздух и медленно выдыхаем. Курильщик не выпускает изо рта сигарету, а жующий ускоряет свои движения. Мужчины в ответ на стресс чаще хватаются за лицо, потирают подбородок, поправляют галстук и оттягивают воротник для проветривания. Женщины щупают себе шею, украшения и волосы. Вам кажется, что она прихорашивается, а на самом деле она нервничает. Есть богатый выбор средств для успокоения. Многие начинают жрать, как не в себя. Кто-то безудержно зевает. А кто-то начинает чистить ноги: проводит ладонями по бёдрам в направлении колен. Всё это - типичная реакция хомо сапиенса на неприятное событие. Есть смысл задуматься, что это было за событие.
Закончив с общими реакциями, Джо прошёлся по телу снизу вверх. Начал с самой правдивой части тела - ног. Лицо может врать, ноги - практически никогда. Получив радостное известие, мы сучим ногами и притопываем от возбуждения. "Счастливые стопы" - признак сладкой жизни. Но и здесь не без подводных камней. Есть люди, которые постоянно двигают ногами. А также другие причины ими двигать. Прежде всего - нетерпение.
Полезно понаблюдать, куда направлены стопы ног беседующих. Как правило, они смотрят на предмет интереса. Пусть даже говорят с другим. А уж если стопы обращены к выходу - знайте: человеку с вами неинтересно, и он ищет возможности свалить при первой возможности. Желание уйти демонстрирует и сидящий, положив ладони на колени и наклонившись. Стопа бывает направлена вверх. Что это значит? А то, что собеседник чем-то очень доволен. Часто она разворачивается уже до того, как вам рассказали о своём хорошем настроении.
Если ноги расставлены в сторону, значит жди конфронтации: собеседник захватывает территорию перед атакой. Это поза говорит: "Я здесь главный!" Если же они наоборот, скрещены, значит текущее положение дел весьма комфортно и благоприятно. Пользуйтесь пространством на здоровье. Часто можно увидеть обоих говорящих в такой позе. Знайте: им хорошо вместе. Хотите узнать, кого из детей мать любит больше других? Обратите внимание, перед кем она скрещивает ноги. Когда люди скрещивают люди, сидя - это содержательный знак. Смотрите, куда направлена верхняя нога. Обычно в сторону человека, которому симпатизирует сидящий. Но бывает, когда отгораживаются коленом от собеседника.
Обращайте прежде всего внимание на изменения в поведении. Стал болтать ногой без причины - значит, обеспокоен. А уж если нога подскочила - это уже подсознательный удар. Болтал ногой, и вдруг перестал - это реакция замирания. Чувствует опасность. Сдвинул ноги и сомкнул стопы - боится и пытается закрыться. Правда, женщины, сидящие в юбке, часто приучены так делать. Часто случается видеть, как люди в стрессовом состоянии обвивают ими ножки стула.
Идём вверх: туловище. Здесь всё просто. К приятному наклоняемся, от неприятного отворачиваемся. Чувствуем угрозу - застёгиваем пиджак и скрещиваем руки. Если при этом ещё ладони сжимаем, то дело вообще плохо. Конечно, бывает просто холодно. Однако, бывает, в дрожь бросает от страха. Ещё люди берут предмет в руки и выставляют перед собой. Поклон - знак подобострастия, почитания или скромности. Поклонов не чурался и Эйзенхауэр на службе у Макартура. Сел и откинулся в кресле? Ему хорошо! Но это если обстановка непринуждённая. В серьёзном разговоре такая поза говорит о претензиях на превосходства. Если так ведут себя дети с родителями, значит они дурно воспитаны. Выражением превосходства является и выпяченная, как у гориллы, грудь. Ещё и одежду при этом норовят иногда снять. И, наконец, о плечах. Нет ничего предосудительного, когда человек пожимает плечами. Может, он на самом деле ничего не знает. Но если он делает это частично или двигает лишь одно плечо, знайте: он что-то скрывает. Тот, кто находится в плену негативных эмоций и чувствует слабость, делает это хоть и медленно, но сильно, втягивая голову в плечи, как черепаха.
Теперь о руках. Хорошее настроение - руки не чувствуют тяжести, взлетая и махая. Плохое - висят, как плети. Страх и расстройство заставляют их прижиматься к телу. А вот если руки двигаются, но как-то скованно - это реакция замирания. Таким поведением выдают себя воры. Есть изолирующий жест рук, когда их закладывают за спину. Делающий так, сообщает: "Не трогайте меня. А ещё я выше вас по статусу". Ещё руками пользуются, создавая между собой дистанцию в общественных местах. Люди толкаются локтями в транспорте. Кто-то упёр руки в боки: доминантное поведение и претензия на территорию. Сколько копов спалилось при внедрении в шайку на этом жесте! Но внимание: важную роль при этом играет, куда сложены пальцы. Если они за спиной, то собеседник просто озабочен или желает что-то выяснить. А вот ещё эффект "капюшона": сидящий закладывает ладони за голову, расставив локти. Он означает: "Я тут главный!" Превосходство выражают и позы с претензией на захват территории: разведённые руки в опоре на стол или "захват" соседнего стула. Два слова про татуировки: да, многим они нравятся. Но большинство их считает знаком низкого статуса или следами бурной молодости. Старайтесь не светить ими в ответственных случаях. Если, конечно, Вы не кинозвезда.
Не прячьте кисти рук от собеседника: это снижает доверие. И не устраивайте борьбу при рукопожатии. Ведь вы только знакомитесь. Тыкать пальцем - ещё один нежелательный, агрессивный жест. Лучше покажите всей пятернёй. Решили пригладить причёску и привести в порядок одежду - делайте это без свидетелей. Иначе это могут истолковать как пренебрежение. Потные ладони - признак стресса, так же, как и грызение ногтей. Стресс вызывает и дрожание рук. А вот когда человек складывает руки "домиком", как Меркель, то это знак уверенности в своей правоте. Однако "домик" легко превращается в знак молящегося после переплетения пальцев. Значит, уверенность потеряна. Знаком уверенности и статуса является также выставленный большой палец. Те, кто не уверены в себе, наоборот, прячут этот палец в кармане. Но если пальцы заложены за пояс, а остальная кисть указывает на гениталии, то это сигнал превосходства. Ещё известный жест - потирание ладоней в предвкушении. Как и с другими частями тела, при жестах кистей рук надо обращать внимание на изменения. Если человек перестал жестикулировать, значит он задумался о чём-то другом.
Лицу стоит верить меньше всего. Это самая лживая часть тела. Первыми нас учат лгать лицом наши родители, говоря: "Ежь, и не кривись!" Впрочем, на словах люди лгут ещё больше, потому порой правда всё же читается на лице. Если собеседник прищурил глаза, сжал челюсти и наморщил лоб, значит ему не понравились Ваши слова. К негативным признакам относятся также трепетание ноздрей и сжимание губ. С лицом надо быть очень внимательным: часто правдивые жесты мимолётны, после чего их подавляют. Морщины на лбу разгладились, мышцы вокруг рта расслабились, губы раздвинулись - дело пошло на поправку. А когда человек ещё голову наклонил, то это уже откровенный знак симпатии. Стоит глянуть в зеркало души - глаза человека. При заинтересованном взгляде зрачки расширяются, а брови выгибаются дугой. Как и при возбуждении и удивлении. От нехорошего люди защищаются, сузив зрачки и прикрыв глаза. При этом часто в ход идут пальцы рук или даже предметы. При совсем уж неприятных новостях человек зажмуривается. Это - блокирующее поведение. Весьма противоречивый знак - пристальный взгляд. Он может выражать и любовь, и заинтересованность, и ненависть. Смотрите на сопровождающую мимику. Отведённый взгляд - не грубость и невнимательность, а, скорее, признак концентрации на чём-то. Вообще, смотреть в сторону можно по разным причинам, и это не может служить универсальным признаком лжи. А если человек вперивается глазами, куда ни попадя, то это, похоже, важная птица. Не каждому это позволяется. Ещё глаза блуждают при отсутствии интереса. В любом случае, потенциальным работодателям не нравится, когда соисканты на должность этим занимаются. Тот, кто смотрит искоса - явно не доверяет. А кто часто заморгал - не уверен в своих силах. Губы надувают недовольные, усмехаются и закатывают глаза - непочтительные. Люди, раздувающие ноздри, собираются совершить какое-то физическое действие, далеко не всегда сексуального характера. При каких обстоятельствах морщат нос, излишне напоминать. Но повторюсь: лицом люди часто обманывают, и если вы видите два противоречивых сигнала - верьте негативному. Если сигналы следуют друг за другом - верьте первому, как не успевшему пройти подавление.
Вообще, чрезвычайно трудно обнаружить обман. Даже профи ошибаются, не говоря о детекторах лжи. Неудивительно. Ложь - это инструмент социального выживания. Те, кто пытаются его прочитать на чужом лице, легко могут спутать обман со стрессом. Сколько невинных людей погорело на этом в суде! Но всё же на что-то в своих выводах можно опереться. Когда человек говорит правду, он свободен и часто при этом делает это с симпатией к Вам. А вот попытка скрыть вину или обман ложится на людей тяжёлым грузом. Ему приходится подбирать слова и маскироваться. Чтобы распознать обман, стоит поместить человека в зону комфорта и не быть подозрительным. В этой зоне человек отодвигает в стороны предметы, может даже придвинуться к Вам. Они раскрывают туловище и внутренние стороны рук и ног. Часто люди отзеркаливают позу друг у друга. Говоря правду, они кивают при этом. А вот если собеседник чувствует себя неуютно, то он ёрзает, закрывается, качается, барабанит пальцами и избегает контакта с Вами. Но увы, дискомфорт - это не всегда ложь. Это может быть банальный стресс. Тяжелее всего иметь дело с психопатами, которые часто встречаются в среде мошенников и прирождённых лжецов. Эти врут, не морщась, да ещё в глаза Вам глядят, не моргая. Главное внимание на изобличении обманщика должно уделяться согласованности действий. Говорящий должен подтверждать это синхронными движениями головы, и движения эти ни в коем случае не должны запаздывать. Разумеется, содержание сообщения должно соответствовать эмоциональному состоянию говорящего. Трудно сохранить спокойствие, если у тебя тревожное событие, и если кто-то умудряется, то что-то не так. Также важно своевременность сообщения. Что-то важное сообщают всегда без промедления. Далее, говорящий правду всегда более выразителен лжеца, который где-то в глубине души боится. Скованность, побелевшие костяшки пальцев, избегание прикосновений - типичные признаки лгущего. Когда ему очень хочется, чтобы Вы ему поверили, он разворачивает ладони вверх в "просительной" позе. Вот тот, кто упёрся в стол своими ладонями - тот гораздо более убедителен. Чего не скажешь о вжавшемся в сидение бедолаге, который и плечами пожимает не как все, а коротко и принуждённо.
-------------
Вот, как-то в этом духе. Найдёте время - прочитайте всю книжку, а то я тут всё на словах, без картинок. У Наварро есть и более свежая книга - подробный словарь жестов. Там их аж 407.
От себя добавлю, что невербальная мимика - вещь, зависящая от культуры, и ФБРовец, проведший полжизни на допросах, делится своим специфичным знанием из своей страны проживания. Делайте поправку и следуйте главному совету автора: наблюдайте за людьми! Это не только полезно, но и интересно. Тренируйтесь на кошках подкастах. Удачи!
Заканчиваем знакомство с книгой Гребера и Уэнгроу "Начало всего. Новая история человечества".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: история доколумбовой Америки говорит нам, что ничто не вечно под Луной. Империи приходят и уходят. Люди решают жить без королей, и живут прекрасно. Когда-нибудь скоро и мы сможем начать жизнь по-новому и станем свободны.
После демонстрации случайности феномена государства авторы убеждают четателя, что законы общественного развития, выводимые обществоведами, на самом деле не очень-то обоснованы. Они задаются вопросом: должна ли истории иметь определённое направление развития? Неизбежна ли монархия? Существует ли "ловушка земледелия"? Судя по истории доколумбовой Америки, ответ на все эти вопросы - резкое "нет". Общества двигались туда и обратно, к земледелию и от него, к протогосударствам, и обратно.
Примером может служить Кахокия. Тысячелетие назад эта столица аграрного государства с населением в 15 тысяч была на вершине могущества. Но всё закончилось. Народ отверг такой способ существования и покинул эти места. Европейцы застали лишь мелкие племенные республики, живущие в балансе природы. О былом прошлом напоминали лишь отдалённые воспоминания.
Авторы говорят с уверенностью, что общества, с которыми столкнулись колонизаторы, являлись продуктом длительных политических конфликтов и сознательных дебатов. Иначе невозможно понять приверженность индивидуальной свободе у гуронов и их соседей, которая повлияла в конечном счёте на понимание свободы и равенства в самой Европе и в мире в целом.
Можно списать опыт индейцев на их неграмотность, то есть на отсутствие письменности. Мол, дикие люди, дети гор, их знания к нам не относятся. Но нет. Пусть они не умели писать, но кое в чём разбирались. Сновидения толковали не хуже Фрейда. Нельзя отвергать их интеллектуальные традиции.
Своеобразность индейской истории подтверждает Хоупвеллская культура, что предшествовала Кахокии. У них были все элементы, необходимые для создания аграрного зернового государства. И земля у них была, и с кукурузой они были знакомы. Но они не стали этим заниматься, предпочитая жить разбросанными хуторами. Охотились, ловили рыбу, содержали огороды. Но никогда не съезжались в деревни. Это было что-то вроде "игрового фермерства", как в Амазонии. Влияние в обществе давали эзотерические знания, но следов существования постоянных элит или духовенства сохранилось мало. Что было - это развитая система кланов. Ритуал состоял из героических празненств и соревнований, которые заканчивались захоронением богатств под слоем земли и гравия. Эти традиции явно говорят о неприятии накопления богатства. Можно было бы списать всё это на локальную особенность, но по факту культурные особенности координировались на огромных пространствах.
Область взаимодействия Хоупвелл
Через сотни лет после упадка Хоупвелла мы видим развитие по знакомому сценарию. Стали возделывать кукурузу. Чаще воевать. Собираться в городки и строить земляные пирамиды. Кахокия стала крупнейшим городом севернее Мексики. Там выросла социальная иерархия с эксклюзивной элитой на вершине. По терминологии авторов, это был режим второго порядка с опорой на силу и харизму, но без контроля над информацией. Но очень скоро последовала эскалация насилия. В городе была возведена стена, не включавшая в себя отдельные районы. Она ознаменовала долгий процесс войны, разрушений и депопуляции. Люди стали покидать сначала сам город, а после и его окрестности. Территория стала дикой степью с покинутыми развалинами. Только редкие охотники оживляли её своим присутствием.
Похожая история наблюдалась и в местах к югу от Кахокии в бассейне реки Этова. Сначала были маленькие городки, каждый с храмом, площадью и домом собраний на ней. В захоронениях нет следов иерархии. Потом появились дворцы, курганы и гробницы. Люди покинули городки и съехались в столицу. Которая была завоёвана кем-то из внешних врагов. Всё кончилось, народ покинул город.
Этова-Маундз в период расцвета.
В регионе стали господствовать мелкие царьки. В конце концов власть их растворилась. Люди снова стали жить в маленьких городках с населением в сотни душ, эгалитарными клановыми структурами и общинным управлением. На совете каждый имел право слова, а к решению приходили согласием, куря трубку мира и выпивая чашку напитка с кофеином.
Культура консенсуса пробила себе дорогу в Европу, где деятели Просвещения за чашкой кофе в кафе восхваляли индивидуальную свободу и порицали религию. Даже табак пересёк океан, правда, не в трубке мира. Идеи терпели трансформацию по мере их перенимания.
Монтескьё с его политологией мог иметь неожиданных предшественников. На него могли повлиять идеи, воплощённые в племени Осейджи. Общество управлялось у них "маленькими стариками", которые занимались приложением натуральной философии к повседневной жизни (рядовые члены племени проводили утренние часы в молитвенном созерцании). Но это не была теократия. У каждого была своя задача в племени, включая последнего солдата. Легенды их говорят, что Водный народ убедил могущественный Земной объединиться в федерацию. Те вроде бы согласились, но потом последовала борьба и нечто вроде конституционной реформы. После чего объявлять войну договорились лишь при согласии каждого из кланов. Потом систему снова перестроили, что привело к разделению гражданской и военной власти под управлением наследственных вожаков. Неважно, сколько в этой истории правды. Важно, что это история народа, самого выстраивавшего свой социальный подарок, который не достался им от Бога. Прошло время, и в строках О духе законов станут угадываться идеи из древней легенды.
Доколумбова Америка убеждает авторов в том, что традиционные исторические схемы с появлением городов, государств и цивилизаций неверны. Тамошние общества явились продуктом другой истории, в которой вопросы власти, религии, личной свободы и независимости женщин были предметом сознательных дебатов, в которых общее направление было против авторитаризма. Индейцы Северной Америки не только избежали эволюционной ловушки, приводящей от сельского хозяйства к империи, но и развили политическое чувство, повлиявшее в конечном счёте на мыслителей Просвещения и в конечном счёте на жизнь каждого.
В заключении авторы говорят нам, что история не движется по прямой. Прогресса не существует. Всё идёт по кругу. Они вспоминают в этой связи Мирчи Элиаде, известного румынского культуролога. Далее, они упирают на то, что история творится не столько объективными обстоятельствами типа технологий, сколько самими людьми, сознательно решающими, какие технологии принимать и как перестроить жизнь общества. При этом исторически они были более гибки, чем сейчас. Сегодня мы застряли и потеряли свободу вообразить и воплотить в жизнь другие формы существования общества. И даже забыли, что делали это в прошлом.
Вот мы и вернулись к вопросу из начала книги: как мы попали в такое положение? Упомянув, что данных, как обычно, не хватает, авторы предполагают, что одной из причин может быть постепенное разделение человеческих обществ на культурные ареалы. То есть обособление, разобщение человечества. Идентичность стала ценностью. Включился схизмогенез. Не зря археологи находят в Мезолите не только множество разных культур, но и первые индикаторы общественных лестниц, насилия и войн. И уже через насилие карнавальный принц превращается в настоящего монарха.
Результат насилия необратим, как и результат войны. Это не спорт. Однако авторы не видят причины предположить, что война всегда была с нами. Нет причины верить, что она запрограммирована в нашем мозгу. Напротив, человеку надо основательно задурить голову, чтобы он согласился пойти убивать и калечить. Свидетельств насилия в Палеолите немного. В Неолите они есть, но разбросаны неравномерно во времени. Война не была константой человеческой жизни и после начала фермерства. Замечу, что она и сегодня не является константой. Но это не говорит, что войны канули в прошлое.
Что отмечают авторы - это тесное соединение между патриархальным укладом и военной силой. Так было в империях древности, что у ханьцев, что у римлян, что у ацтеков. В Древнем Риме с одной стороны свобода была частным делом, а с другой - частная жизнь характеризовалась абсолютной властью патриарха над пленниками, кого считали частной собственностью. Но в любом случае, войны, зверства и взятие пленных случались уже задолго до империй. Ирокезы с гуронами были тоже воинственны, пусть авторы оправдывают последних, что те были жестоки лишь к чужакам. (Ага-ага. Наци действовали точно так же.)
По нашу сторону Атлантического океана патриархальная семья служила шаблоном для власти монарха и наоборот. Дети слушались родителей, жёны - мужей, а подданные - правителей, власть которых шла от Бога.
Публичные пытки в Европе семнадцатого века создавали жгучие, незабываемые спектакли боли и страдания для того чтобы донести месидж, что система, в которой мужья могут мучить жён и родители - бить детей, является на самом деле формой любви.
То ли дело гуроны. Они мучили пленных, чтобы своим не пришло в голову наказывать друг друга. У них насилие и забота были разделены.
В заключение авторы снова повторили, что сложные системы не должны обязательно быть организованы иерархически, что подтверждается историческими примерами. Люди экспериментировали с организацией своих обществ. Да, были монархии, были аристократии. Но существование больших человеческих сообществ не подразумевало автоматически их появления. Где-то иерархии были распущены, где-то монархи впрыгнули пространство, зарезервированное для поклонения богам. В шумерских храмах можно было найти много вдов, сирот и пленных. Они находили там приют и помощь, но и привлекались к труду. Со временем статус их понизился, и храм превратился в нечто вроде викторианских домов для бедноты. Первая свобода была потеряна, что со временем повлекло с собой потерю двух других. Похожий процесс порабощения авторы отмечают в трудах Франца Штайнера. Кончилось это патриархальным укладом. Антропологи феминистского толка уже давно связывают внешнее (мужское) насилие с трансформацией статуса женщины в семье.
Но не всё так грустно. Рабство отменяли уже много раз в истории. Как, похоже, и войну. Человек - хозяин своей судьбы. Массовое порабощение, геноцид, тюремные лагеря, даже патриархия и наёмный труд - всё это не факт, что должно было случиться. Авторы говорят нам, что в наше время общества приближаются к точке кульминации в мировой истории. Должно что-то случиться. Приходят новые понимания человека и его истории. Разоблачаются мифы. Приходят новые поколения, и то, что старики считали немыслимым, найдёт место в головах. Первый шаг уже сделан.
----------------------
И это должно быть "новой историей человечества"?! Ну, не знаю... Готов согласиться, что человечество могло бы оставаться до сих пор в состоянии доколумбовых индейцев или австралийских аборигенов. И при этом чувствовало бы себя счастливым. Но случилось то, что случилось, и сегодня мир нарезан на иерархические структуры. Авторы, отвечая на вопрос, почему так вышло, не докапываются до основной причины. Могу представить себе простой ответ: те, кто организуются, действуют более эффективно. Армия лучше действует, если в ней есть командир и дисциплина. Я полностью согласен с авторами, утверждающими, что в государстве нет большего смысла, чем заставить людей подчиняться. Это нам говорил ещё школьный учитель в пятом классе: государство - это сила, держащая в повиновении народ. Точка. Конечно, в принуждении как таковом мало хорошего. Но это работает! Уже в шестом классе мы узнали, что было много разных народов. Например, поморские, и полабские славяне. Но их сегодня нет. Почему? Ответ учителя был прост: они не сумели создать централизованного государства. И послужили материалом для формирования других народов.
Государство не является обязательным и можно жить без него. Это - чистая правда. Так и колесо, и компьютер не являются обязательными. Можно жить и без них! Но нужно ли?
Могу согласиться и с выводом, что человек - хозяин своей судьбы. В конце концов, революции случаются и законы переписываются не с бухты-барахты. Во что не верю - так в то, что войну можно "отменить". То, что бывают долгие периоды без войны, можно объяснить благополучной жизнью. Имея отдельную квартиру, как-то сам становишься добрее, а коммуналки - источники конфликтов. Так и народы. Когда у всех всё есть - все довольны и не воюют. А когда крокодил не ловится, не растёт кокос - волей-неволей пойдёшь в набег, чтобы не сдохнуть с голоду.
Впрочем, на счёт неизбежности войн научный консенсус отсутствует. У меня есть хорошая книжка на эту тему. Придёт время - ознакомимся.
Продолжаем знакомиться с книгой Гребера и Уэнгроу "Начало всего. Новая история человечества".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: Хотите власти? А где ваша сила? Знания? Харизма? Древние правители имели хотя бы одно средство из набора. А современные имеют все три. Цивилизация - это не страны и города, а сотрудничество людей. Историю этого сотрудничества ещё нужно написать.
Государства связаны с властью, с доминированием. В поисках происхождения государства авторы решили проанализировать, как это доминирование может проявляться. Итак, барабанная дробь! Три принципа социальной власти!
Тот, кто контролирует власть, тот контролирует и собственность. Потому для анализа стоит задуматься, что позволяет некоей персоне, скажем, Ким Кардашьян, сохранить свою собственность. Первый принцип - это, конечно, сила. Она может напялить алмазное ожерелье и пройтись по улице. В сопровождении телохранителя, конечно. Второй - информация. Она может засунуть ожерелье в сейф, комбинация цифр которого известна лишь ей. И третий - харизма. Она может иметь такой авторитет, который не позволит кому-либо покуситься на её богатства.
Каждый принцип служит основанием для создания определённых институтов, на которых базируется государственная власть. Помимо силовиков, есть и компетентные бюрократы, ведающиие информацией. И демократическая система, придающая легитимность избранным лидерам. При этом лидеры эти приходят не с улицы, из обоймы элитариев. Суверенность, бюрократия и соревновательное политическое поле определяют современное государство. Заметьте, современное! Авторы не уточняют, что демократия - сравнительно недавний феномен, в то время, как государства существуют уже продолжительное время. Как насчёт монархии? У помазанника Божьего что, нет харизмы? Есть конечно. Она просто достигается не демократическим соревнованием.
Перейдём к историческим примерам. Ацтеки управлялись аристократией, чья власть была основана на войне, грабеже и сборе дани. Были развиты монархия, чиновничество, военный аппара, религия. В отличие от соревнующихся ацтекских аристократов, Инка считался воплощением Солнца. Власть была сконцентрирована на нём лично, и её было трудно делегировать. Что интересно: налаженные структуры подчинения сыграли плохую службу с населением. Испанцам достаточно было взять столицы и низвергнуть правителей - и обе империи с покорными подданными оказались у них в руках. А вот с непокорными Майя они "намайялись". К приходу Колумба те уже распрощались со своим имперским прошлым. И их общества были децентрализованы, часто даже без правителей. Таких трудно заставить работать на себя
Вообще, почему имперские времена должны иметь на себе знак качества? Люди неплохо живут и в междувременье, которое длится сотнями тысяч лет. Историки привыкли оперировать терминами типа "Междуцарствие", деля, например, египетскую историю на Древнее, Среднее и Новое Царства. По факту то время, что было между ними, имело единственным отличием отсутствие единоличного правителя. Эта близорукость относится не только ко времени, но и пространства. Не стоит смотреть на мировую история как на шахматную доску городов, царств и империй. Они были лишь островками иерархии в море безвластия.
Авторы наблюдают в истории кристаллизацию разных типов власти, каждая - со своей смесью силы, знания и харизмы. И обращают внимание на аномалии, при которых люди организовывались по иным принципам, без доминирования.
Например, у ольмеков политическая борьба была слита с организованным спектаклем. Авторы связывают соревновательную игру в мяч с подъёмом аристократии.
Мезоамериканская площадка для игры в мяч
Ольмеки видятся культурными предшественниками позднейших мезоамериканских царств и империй. Но всё же свидетельств доминирования над большим населением, мало: ни постоянной армии, ни бюрократии. Если их форма правления могла быть ассоциирована с государством, то это государство было "театральным", при котором организованная власть осуществлялась периодически в рамках больших, но мимолётных спектаклей.
Похожее правление можно было найти и в древней Южной Америке в рамках Чавинской культуры. Чавинцев раньше считали предками инков. Но вряд ли их можно считать "римлянами Анд". Их лабиринты полны сакрального знания, однако не связаны со светским правлением. Если это и была империя, то она основывалась на изображениях, хранящих эзотерику. Тайное знание обеспечивало власть над большим и рассеянным населением.
Чавинское сакральное изображение
В этих системах первого порядка власть основана на одном из трёх принципов власти. Ольмекские правители опирались на харизму, а чавинцы - на информацию.
В примерах властей, опиравшихся лишь на силу, недостатка нет. К такому типу авторы относят натчезов из южной Луизианы. Их правитель при абсолютной власти не имел ни бюрократии, ни соревновательного политического поля. В такиих условиях власть эту трудно было распространить куда подальше, чем круг общения монарха.
Основание первых государств сопровождалось ритуальными убийствами. Первые египетские цари были похоронены вместе с жертвами из ближайшего окружения. Такой вывод можно сделать из результатов раскопок Первой династии в Абидосе. Насилия обратилось против родственников, к которым присовокупили и слуг, и даже животных, сделав из них первых подданных. Так родилась суверенность. Похожее происходило и при первой китайской династии Шан. Смерть правителя становилась основой для преобразования жизни народа.
Чтобы прояснить, почему так получилось, нужно смотреть глубже в прошлое. Фараоны не появились из ничего. Доисторическая долина Нила, похоже, служила ареной противостояния множества местных царьков. Захоронения которых обнаруживаются уже за полтысячи лет до Первой династии. Эти царьки обладали грандиозными претензиями, но не имели ни административного, ни военного контроля над своей территорией. Как смогла появиться первая бюрократия? Авторы утверждают, что ключевым процессом организации была организация "питания" умерших предков, которые "употребляли" пиво и хлеб. Во всяком случае сосуды для них были типичным объектом обстановки гробниц. Слились два процесса - аграрный и церемониальный, и это привело к эпохальным переменам. Появилось крестьянство. Ведь в прединастический период египтяне были более скотоводами, чем земледельцами.
Можно было бы улыбнуться, но во время распространения господства инков в Перу тоже появился отдельный напиток для богов - чича, которае впоследствии стало "имперским" питьём.
В Египте первые пекарни и пивоварни соседствовали с кладбищами, а затем - с дворцами и гробницами. Постепенное распространение монаршей власти сопровождалось созданием поместий для снабжения не живущих, а умерших фараонов, а также госчиновников. Возникла социальная машина, в которой подданные-винтики строили пирамиды в будни и участвовали в ритуалах на досуге. Она обеспечивала заботу и преданность. Комбинация этой машины с насилием - и есть государство. Как его мыслят авторы. Как и в Древнем Египте, так и в современном государстве, преданность народа направляется в сторону большой абстракции, будь то Отечество или предки фараона. Сверху вниз идёт поток божественных благословений и покровительства, изредка принимающие материальную форму во время больших праздников.
В других уголках планеты государства появились по-иному. Междуречье стало свидетелем динамического соперничества бюрократий речных долин и героев-воинов окружающих холмов. Правители Майя не имели административного аппарата, но считали, что космос некоей иерархией, управляемой предсказуемыми законами. Авторы не находит существенного сходства между, скажем, Шан, Древним Египтом или инками. Почти все эти "древние государства" было бы точнее описать, назвав системами второго порядка. В них были реализованы два из трёх возможных систем доминирования. Египет имел силу и знание, Месопотамия - знание и харизму, а Майя - харизму и силу (почему египетским фараонам, по совместительству богам, не хватало харизмы, для меня осталось загадкой). А вот во времена Междуцарствий авторы находят "героическую политику", которая заместила собой отсутствие суверенности как основы для власти. Для них эти времена знаменуют значительные политические достижения.
Где берёт начало государственная бюрократия? Как мы видели выше, древние города обходились самоуправлением, а фермеры на Бали смогли сами организовать орошение своих полей. Пролить свет на истоки госаппарата помогли раскопки в Телль Саби Абьяд. Жители этой древней деревушки умудрились организовать сложный складской учёт с архивами. И это за две тысячи лет до появления городов! Зачем они этим занимались? Чтобы поделить всё поровну не допустить накопления богатства, вот. Параллели авторы находят в андских деревенских ассоциациях, которые заботились о перераспределении земель по мере роста или уменьшения отдельных семей. С помощью кипу велись записи и в конце года закрывался баланс.
Потом пришли инки и поставили сельскую бюрократию на службу императору. Бюрократизация общества сделала людей взаимозаменяемыми винтиками в системе. Когда люди взаимозаменяемы, то обещания, которые они дают, можно передавать другим. Это привело к потере трёх базовых человеческих свобод: свободы передвижения, свободы не повиноваться и свободы строить отношения. Как деньги испортили принцип обещания, так и бюрократия исказила принцип заботы. В обоих случаях математика и насилие разрушили фундаментальные основы жизни общества.
Итожим. Из того факта, что наша планета нарезана в данный момент на государства, не следует того, что это положение вещей было неизбежно. Разделение труда - слабый довод: в древних государствах оно было плохо развито. Задача государственного управления носила часто сезонный характер. Привело ли развитие земледелия к усилению государств? Возможно. Но авторам более близка другая точка зрения: то, и другое были вызваны укреплением патриархальных отношений и снижению роли женщины в домашнем хозяйстве. Шли годы - и монархи стали настолько значительны, что стали необходимым средством установки отношений подданных друг с другом.
Авторы выводят, что государство - не результат долгой эволюции, а "сочетание суверенности, администрации и харизматического соревнования, у которых разные корни". В них нет ничего неизбежного. Можно прекрасно жить и без них. Человеческая цивилизация - это не привычка людей жить в городах, а взаимопомощь, сотрудничество, гражданский активизм, гостеприимство и просто забота о ближнем. Если это так, то история цивилизации лишь только начинает писаться.
Люди смогли развить математику, календарь, изобрести металлургию, научились печь хлеб и варить пиво без королей, бюрократов и постоянных армий. Трудно поверить, что достижения мысли вышли из головы мужчины, как Афина из головы Зевса. Что до сих пор подходило под название "цивилизация" могло по факту быть присвоено мужчинами, которые высекли свои притязания в камне.
Были ли случаи истории, когда женщины руководили? Авторы отвечают на вопрос положительно и приводят в пример Минойскую цивилизацию. Они не находят в ней ясных признаков монархии (несмотря на наличие дворцов и храмов). Женщины солиднее изображены на фресках. Они держат на них символы руководства, исполняют ритуалы плодородия, сидят на тронах и собираются вместе. Мужчины в основном занимаются спортом или платят дань.
Дамы на голубом. Минойская фреска.
Даже товары, привозимые купцами, предназначались в основном женщинам: музыкальные инструменты, косметические кувшины, скарабеи-амулеты... Дворцы минойцев не укреплены, а искусство почти не связано с войной. В нём нет героев, а лишь игроки. Это всё указывает на женское политическое правление. Авторы задаются вопросом, был ли это вообще режим доминирования. Хотя данных, как обычно, недостаточно...
---------------------------
Сомневаюсь в теории авторов. Они выводят три принципа доминирования, третий из которых - харизма - скорее, является результатом первых двух. Авторитет правителя не растёт на пустом месте. Даже если согласиться с ними, то выясняется, что харизма эта должна быть не какая попало, а основанная на конкурентной борьбе. Фараоны не в счёт. Возникновение государств как случайный процесс тоже как-то не убеждает. Особенно в свете того, что они появились независимо друг от друга на разных континентах.
Уже в своём "Долге" Гребер воспевал романтику междуцарств. Для него анархия - лучшее время. Теперь вот и феминистские нарративы с "мужским присвоением" добавились. Удручает не столько это. А то, что выводы его почти неизбежно содержат слово "возможно". То есть являются не обоснованной точкой зрения, а определённого рода фантазиями. Для которых есть свой отдельный жанр.
Продолжаем знакомиться с книгой Гребера и Уэнгроу "Начало всего. Новая история человечества".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: конкистадоры застали в Америке не только жестокие империи, но и свободные республики. Которые имели давние традиции. Теперь, когда мы знаем, что древние знали цену свободе, остаётся спросить: как мы её потеряли?
Пройдя с запада на восток Азию, авторы обратились за поиском древнего равноправия к Америке. И нашли его в Теотиуакане. Его жители смогли обойтись без правителей.
Монархи оставляют следы, не стирающиеся тысячелетиями: дворцы, захоронения и монументы, прославляющие завоевания. Всего этого в Теотихуакане нет. Такое впечатление, что стены расписывал ученик Брейгеля старшего. В них масса народу, но нет короля. Профессор Эстер Пастори, долгое время изучавшая их искусство, пришла к радикальному выводу: жители Теотиуакана были знакомы с королевскими традициями Майя и сознательно обращали их культуру, противопоставляя себя им.
Эксперты соглашаются между собой, что этот город был организован "вдоль некоторого рода сознательных эгалитарных линий". Но вот беда: на некоторых изображаниях Майя можно увидеть сидящие на троне фигуры, облачённые явно в теотихуаканское платье. Вот тебе и эгалитарии! Авторы объясняют, что это, скорее всего, залётные джентльмены удачи, которых выгнали из родного города. Конечно, это всего лишь предположение.
Наибольшее впечатление Теотиуакан оказывает не пирамидами Солнца и Луны, нет. А тем, что их окружает: многими гектарами многоквартирных добротных строений, в которых было комфортно жить в своё время.
Чем не социальное жильё? Вместо того, чтобы строить дворцы и элитные апартаменты, граждане занялись городским обновлением, обеспечив комфортабельными квартирами почти всё население города, независимо от богатства и статуса.
Но началось всё не сразу. Хоть город начал расти с начала тысячелетия, лишь в районе 300-го года что-то произошло. Храм Пернатой Змеи был сожжён и разграблен. Строительство новых пирамид - остановлено. Ритуальные человеческие жертвоприношения - прекращены. А вот социальное строительство продолжилось. Обездоленных осталось мало. Да и следов насилия сохранилось тоже мало. Конечно, трудно восстановить социальное устройство без письменных источников. Но вряд ли это была вертикальная система администрации. Скорее власть была распределена между местными собраниями, которые, возможно, держали ответ перед правящим советом.
Однако под поверхностью гражданского общества ощущалось напряжение между этническими группами. В шестом веке социальная ткань города затрещала по швам, и система развалилась изнутри. Население разбежалось. Такой процесс концентрации и дезинтеграции несколько раз повторялся в доколумбовой Мексике.
Неужели всё это прошло без следа? Нет. Эгалитаризм был унаследован племенами, с которыми пришлось столкнуться уже Эрнану Кортесу. Тому нужны были союзники при завоевании Теночтитлана. Он нашёл их в лице тлашкальтеков. Это был примечательный народ: они управлялись не монархом, а республикой. Кортес сравнивал правление в Тласкале с Венецией, Генуей и Пизой. Республиканские традиции появились там не на пустом месте. Это были наследники Теотиуакана, которые мыслили себя антиподами ацтеков с их Монтесумой. Тласкала была организована совершенно по-другому, нежели Теночтитлан. Археологи подтверждают: у них не было ни дворца, ни храма, ни даже центральной площади. Только лишь добротные дома. Их политические традиции не были аномалией. А лежали в русле тысячелетней городской традиции, коренящейся в социальном эксперименте Теотиуакана. Не кто иной, как ацтеки прервали эту традицию, создав хищную империю в духе доминантных политических моделей Европы того времени.
У тлашкальтеков были старые счёты с их заклятыми врагами ацтеками, которые они закрыли, объединившись с испанцами. Примечательно, в сохранившемся описании совета, где они принимали решение, вступать ли в союз с Кортесом, сказано, что заслуженный старейшина Ксинотенкатль предостерегал от этого решения. Он предупреждал, что в конечном счёте ненасытные испанцы поработят их народ. Сто тысяч трашкаланцев бились плечом к плечу с тысячей испанцев против ацтеков. Независимой туземной республике, управляемой советом избранных, пришёл конец. Хоть от налогов их освободили, но к моменту независимости Мексики от сотен тысяч тлашкальтеков осталось 700 человек.
Мы убедились, что жизнь вполне реальна без государственной машины принуждения. Откуда тогда происходит государство? Авторы говорят нам: "Ниоткуда!" Для начала они пытаются определить, что есть государство. Организация, имеющая монополию на насилие в пределах данной территории? Защитник власти правящих классов? Аппарат управления? Все эти определения предполагают, что государство необходимо для функционирования большого и сложного общества. Но авторы показали нам, что древние обходились и без него. Если ещё учесть, что структуры доминирования и принуждения, а также наука и философия тоже могут обходится без государства, то станет ясно: нужно ставить другие вопросы. Что общего имели древние города, королевства и империи? И было ли у них общее? Что это говорит нам об истории свободы и равенства? И как умудрилось человечество порвать с ними?
--------------------------
Рассказ авторов убедителен: у тлашкальтеков была республика. У меня остаётся один маленький вопрос: была ли эта республика государством? Похоже, авторы говорят, что ответ - отрицательный.
Продолжаем знакомиться с книгой Гребера и Уэнгроу "Начало всего. Новая история человечества".
Все части сложены здесь.
Коротко для ЛЛ: Сельское хозяйство не сразу прижилось на планете. Первые горожане не имели королей, а жили в равноправии. Быть может, не всюду, но археология такое допускает. И вообще, чтобы сделать что-то сложное, необязательно строить иерархию.
Последователи Жан-Жака неправы. Совсем необязательно, что первые земледельцы ввели частную собственность, иерархии и суверенность. Хозяйничать на земле можно и сообща. Таких примеров полно, самый известный нам - русская мировая община. Не так давно географы и историки полагали, что сельское хозяйство зародилось совсем в немногих очагах. Очаги эти находились недалеко от первых городов, что позволило спекулировать о том, что производство еды приводит к появлению городов.
Но нет. Сегодня известно порядка двух десятков независимых очагов сельского хозяйства на планете. К классическим центрам добавились Индия (маш, просо, рис, зебу), Сахель (просо), Новая Гвинея (бананы, ямс, таро), Амазония (маниока, арахис) Восток Северной Америки (подсолнух) и т.д.
Ареалы одомашненных животных и растений
Если рассматривать историю, как поступательное разворачивание прогресса, то, похоже, пути этого прогресса были довольно запутаны. Мы мало знаем о прошлом центров земледелия и скотоводства за пределами Плодородного Полумесяца. Тем не менее, нигде не было линейной траектории от производства продуктов к формированию городов. При этом часто охотники-собиратели не переходили к возделыванию злаков, уже зная о них и проживая в подходящей местности. Да, география чертит свои границы, перейти которые удалось часто лишь вследствие мировой экспансии европейцев. Но, глядя на "Неолитическую революцию Старого мира", не стоит представлять себе аграрное развитие улицей с односторонним движением.
Кстати, почему сельское хозяйство появилось в Неолит? Почему не раньше? Не всегда климат позволял. Со времени появления сапиенсов было лишь два подходящих тёплых периода. Первый начался около 130 тысяч лет назад. В Рейне и Темзе плюхались тогда бегемоты. Но человек тогда ещё сидел в своей африканской колыбели. Второй период начался 12 тысяч лет назад. К этому времени человек уже разошёлся по всей Земле. Если уж зашла речь о климате, стоит упомянуть, что человек стал влиять на него довольно рано. Приведу пример. Болезни, завезённые европейцами в Новый свет обезлюдили его. В результате на опустевших землях наросла зелень, которая достала часть углерода из атмосферы. И это привело у похолоданию земного климата в конце шестнадцатого века.
Но вернёмся к началу Голоцена. Тающие ледники создали приволье не только для земледелия. Но и для охоты, например. Первые фермеры были аутсайдерами. Они селились на негодных землях. Придя в Европу в первый раз примерно семь тысяч лет назад, они потерпели поражение. Пока они не мешали охотникам-собирателям, жили себе. Но стоило им углубиться в более заселённые прибрежные области, как натолкнулись на дикие нравы охотников. Те стали совершать на них набеги и уводить в плен. Война вряд ли была единственной причиной. Свою роль сыграло ограниченной число выращиваемых культур, монотонность лёссовых ландшафтов центральной Европы. Фермерство Неолита было экспериментом, не обречённым заведомо на успех.
Африканцы отнеслись к евразийским аграрным нововведениям избирательно. Они не стали заимствовать всё подряд, переняв в первую очередь скотоводство. А злаки возделывали по случаю. Древние жители поймы Нила пасли скот, комбинируя это с сезонами охоты, рыбной ловли и собирательства. До того, как появились фараоны, почти каждый мог надеяться быть похороненным, как принц или принцесса.
Океания стала свидетельством неустанного распространения стручковых и фруктов вкупе с собаками, свиньями и курами силами Лапиты. Те, как и европейцы, селились в безлюдных местах. Но, в отличие от них, они диверсифицировали свою экономику: осваивали новые материалы и технологии.
И Европа, и Африка, и Океания - все они серьёзно брались за сельское хозяйство. Однако в Амазонии дело обстояло иначе. Там случались сезонные переключения между охотой и земледелием, и культурный маршрут был неочевиден. Происходило это на протяжении тысяч лет. Авторы предполагают, что такой агро-лесной образ жизни был осознанным выбором людей, имевший представление о сельском хозяйстве.
По факту агротехнологии распространялись очень медленно. Кукуруза пять тысяч лет ждала своего часа, подсолнух - две тысячи лет, просо - три тысячи. Похожим образом и свиноводство медленно нашло своё распространение. Фермеры всего мира были амазонскими по духу, "болтаясь" на пороге сельского хозяйства и оставаясь привязанными к культурным ценностям охотников и собирателей. Сельским хозяйством пришлось заниматься чаще всего за неимением альтернативы, на плохих угодьях. Это была странная стратегия. Но в ней был потенциал, особенно когда к злакам добавился домашний скот. Население планеты выросло с пяти миллионов до девятиста не просто так.
Остаётся вопрос: неужели все эти огромные фермерские массы могли прокормить себя, не строя иерархий? Это сложный вопрос, и авторы не спешат на него отвечать.
Вместо этого они рассказывают нам о первых евразийских горожанах. Обычный ход рассуждений о развитии человечества выглядит следующим образом: человек оптимально работает в небольшом коллективе. Живя в большом городе, ему становится некомфортно, потому оказывается нужна некоторая организационная структура, помогающая работать большому сообществу. Если так, то появление первых городов должно сопровождаться появлением цивилизаций с их нищими и философами. Взглянув на Древний Египет, Месопотамию, Китай и Центральную Америку, мы, казалось бы, убеждаемся в справедливости такой точки зрения. Но авторы огорашивают читателя утверждением, что новые факты говорят о другом. Найдены древние города без храмов и дворцов. Это может обнадёжить нас. Ведь, живя в городе, мы не обязаны формировать структуры доминирования.
Более того, они говорят, что массовое общество не формируется само по себе. В начале оно появляется в чьей-то голове. И остаётся в головах после своего появления. Не стоит верить теориям про масштабирование числа Данбара. Города - на самом деле следствие не укрупнения деревень, а сжатия культурного пространства, начавшегося в Неолите и приведшего к образованию культурных ареалов. Их обитатели частот пользовались равноправием. Лишь в небольшом числе раскопанных древних городов были обнаружены признаки авторитарного правления.
Почему города стали появляться 7 тысяч лет назад, а не раньше? В числе факторов авторы приводят успокоившиеся после таяния ледников реки и стабилизировавшийся уровень моря. Это привело к образованию плодородных пойм и дельт, полных добычи. Нил, Миссисипи, Евфрат... В эти места, полные дичи, зелени и рыбы, тянуло первобытных охотников и собирателей. Ещё не факт, что появилось в первую очередь в тех условиях: город или экстенсивное фермерство. А империи? Империи появились тысячелетия спустя. Об этом говорят раскопки в Китае и Перу.
На Украине и в Молдавии раскопали внушительные поселения Трипольской культуры без намёка на социальные структуры. Они были построены по кругу, внутри которого... ничего не было. Какая социальная сила могла держать вместе горожан, если это не была иерархия?
Жизнь в таком мега-селе нельзя было описать "простой". У жителей были не только сады-огороды, скот и лесные угодья. Они импортировали соль и медь, добывали кремень. Процветало гончарное искусство. При всём при этом следов войны или подъёма социальных элит не найдено на протяжении восьми столетий. Как это работало? Авторы указывают на разные стили обстановки каждого жилища. Планы городов похожи между собой и выглядят, как результат процесса принятия решений на местах. Пусть число жителей больше 150 (число Данбара), тем не менее эгалитарный стиль жизни мог распространяться и на весь город. В стране Басков и сегодня есть схожие коммуны, построенные, кстати, тоже по кругу. У каждого есть сосед слева и сосед справа. Нет ни первых, ни последних.
Сообщества равных авторы находят и в Месопотамии, которая не была вечной страной королей. Остатки самых ранних тамошних городов не содержат свидетельств монархии. Те города строили равные граждане в рамках обязательных сезонных общественных работ. Мобилизация на эти работы, ко гда раб работает плечом к плечу с хозяином, мыслилась моментом абсолютного равенства перед богами. И даже когда появились автократы, даже они держали ответ перед городскими собраниями всяческого рода. Воля народа могла касаться таких дел, как набор войск или взимание налогов. Современные учёные назвали такое автономное самоправление "примитивной демократией".
В шумерском Уруке четвёртого тысячелетия до нашей эры "госсектор" управлялся местными собраниями, причём бюрократические процедуры были ограничены сферой экономики и недвижимости. Не стоит думать, что монархия какого-либо рода играла важную роль в ранних городах юга Месопотамии. Урук основывал колонии на свободных местах. Одну из них, находящуюся на юге современной Турции, раскопали. И вот в ней-то нашли следы появления военной аристократии в районе 3100 года до нашей эры. Как правило, эти структуры "героического общества" происходят не из города, а с его окраины. Культура таких обществ явным образом отрицает черты городской цивилизации. Заменяют письмо устным творчеством. Презирают коммерцию. Таким образом, аристократия, и возможно монархия, произошли из оппозиции к эгалитарным городам равнин Междуречья. Так Аларих ненавидел Рим и всё римское, Чингиз-хан - Самарканд и Мерв, а Тимур - Дели.
Идём дальше на Восток. В Мохенджо-Даро не нашлось следов концентрации материального материального богатства в Верхней Цитадели. Фокус гражданской жизни был не в дворце или кенотафе, а общественный бассейн для очищения. Да, сама Цитадель была чем-то вроде города в городе. Это вызывает в памяти кастовое общество. Но даже если это и так, то в пределах каст не было ни королей-жрецов, ни военной аристократии, ни чего-то, что можно ассоциировать с "государством" городской цивилизации долины Инда. Доказательств маловато, конечно. Но так же обстоит дело и с доказательствами существования иерархий.
Иерархии не являются чем-то необходимым, жизнь можно наладить и без них. Примером может служить сложная система ирригационных сооружений на Бали. Хоть у балийцев хватало своих королей, рис возделывали они без их помощи. Для этого были "водные храмы", распределявшие живительную влагу на основании консенсуса между фермерами.
Выходит, что для города необязательно нужен монарх или правящая элита. Критики могут возразить, что эти ранние города в конце концов обзавелись автократиями. Но развитие порой идёт и в обратную сторону. В пример Гребер и Уэнгроу приводят Китай, где раскопки в районе города Таоси открыли картину первой в мире социальной революции с низвержением элит и последующей эрой процветания на протяжении столетий. Конечно, свидетельство тому не так много. Но по меньшей мере стоит задуматься, что первые города могли служить местами сознательного социального экспериментирования с конфликтами между разными видениями будущего
------------------
Понятно нежелание авторов быстро отвечать на вопрос по поводу необходимости иерархии для решения сложных задач. Ирригация на Бали - это, конечно, хорошо, но попробуйте-ка построить электростанцию, не структурируя проблему и распределяя ответственность, а на голом консенсусе. Сомневаюсь, что получится что-то путное. Полемика с Тюрго, на мой взгляд, не выиграна.
Новые открытия археологов выглядят впечатляюще, слов нет. При этом материала слишком мало, чтобы делать столь смелые выводы. Авторы пытаются, по их словам, совершить синтез. Но мне кажется, что поиск истины должен идти иначе. Не выискиванием подтверждений своих убеждений, а взвешиванием "за" и "против".