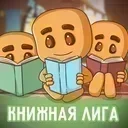Поиск средневекового фэнтези
Добрый день! Подскажите фэнтези циклы без большого упора в разные расы. С умеренными количеством магии.Сеттинг близкий к средневековью.По типу Полари Суржикова
Добрый день! Подскажите фэнтези циклы без большого упора в разные расы. С умеренными количеством магии.Сеттинг близкий к средневековью.По типу Полари Суржикова
Римма Грекова стесняется буквально всего на свете. Дурацкие очки, огромные брекеты, монументальное имя... У нее нет друзей. Герои Древнего мира ей понятны и близки, не то что одноклассники! А еще она никогда не ходила в настоящий поход, в отличие от своих родителей-историков.
Однажды в школу на встречу пришёл известный историк-путешественник. Он предложил собрать инициативных ребят и организовать во время летних каникул экологический поход на Соловки. Несколько месяцев подготовки, и вот – дюжина ребят и четверка взрослых ступают на берег острова…
Мир полон приключений, и мышонок Невио хочет испытать их все!
Сегодня в пожарной части день открытых дверей, и Невио не упустит свой шанс. Он уже давно мечтает стать пожарным, стать спасателем и настоящим героем! Кроме того, у Невио прекрасный нюх, и он может почувствовать запах дыма пожара быстрее, чем человек! Увы, главный пожарный не хочет брать на работу мышонка. Но мышата просто так не сдаются!..
Герои новой книги Ирины Краевой – мальчик Миша и его большая семья – знают, что такое настоящие приключения. Они отправляются в походы, устраивают богатырские поединки, находят пропавшего альпиниста, путешествуют во времени и спасают сбежавших из зоопарка в Китае крокодилов. Почему в походе лучше питаться пряниками, можно ли превратить Сущее Безобразие в настоящего друга и как вырастить домашнего птерозавра – ответить на эти и другие необычные вопросы помогут герои книги.
Давно читал и совсем забыл название одной книги. По сюжету главный герой был инженером и создавал много необычных роботов. У него была небольшая компания, в штате которой был друг главного героя занимавшийся продажами и секретарша, которая вскоре стала невестой гг. Эти "невеста" и "друг" вступили в сговор и обманом переписали на себя компанию и все изобретения главного героя, а его самого накачав какими-то веществами отвели в клинику, где его поместили в криокапсулу
Всем доброй ночи!
Меня зовут Рэд Кэррот, и я люблю придумывать всякие разные истории (читать как - пишу книги. хотя сказано очень громко). Человек я очень нерешительный и довольно стеснительный (самокритично, чего уж там), поэтому довольно долго не хватало смелости написать сюда. Особенно зная, как тут любят напихать помидоров за шиворот по поводу, а еще лучше без =) Поэтому пишу под новым аккаунтом, не хочу, чтобы кто-то опознал из тех, кто может узнать.
История моя довольно простая: в детстве очень нравилось читать. Читалось все - от персидских-арабских-индонезийских-русских сказок (почему-то дома были сказки вот едва ли не всех народов мира, причем одна книга так и называлась "Сказки народов мира") до десятка томиков Советского детектива (другого названия книги не имели, красные такие, в детстве не очень понятные и не слишком интересные, но какие есть). А еще в деревне летом можно было зачитать до дыр "Берегите солнце" или "В августе 44-го", когда на речке не клюет, грибы не выросли и ягоды не созрели...
Там же в деревне была найдена печатная машинка на чердаке, и мы с сестренкой от скуки пытались что-нибудь придумать, ломая пальцы о клавиши и мучаясь со постоянными заеданиями оных.
Но начало положили книги о Гарри Поттере, как первая фэнтези, попавшая в руки. И, наверное, дело было в подходящем возрасте, поскольку до того мы всей семьей читали Конана Варвара (фиг знает откуда вообще взявшегося), причем кому какой том достался - было не важно, все равно не понятно нифига. Вру. Был еще Роджер Желязны с его Хрониками Амбера, которого кто-то дал почитать (точно не помню, до или после это было; однако это было уже интересно, до сих пор любимая серия и любимый автор). Дома почему-то не было детско-подростковой фантастики и фэнтези (убираем отсюда сказки!!), только советская литература и классики.
Уже позже, когда случился мега-бум на тему ГП и была прочитана книга Дмитрия Емеца про Таню Гроттер, мне тоже очень захотелось придумать свою историю. Конечно, то была почти полная копия истории подростка-мага, который учится в магической школе с Королем-Личом в роли главного злодея и прочей атрибутикой. Забавным тогда показалось , что еще до выхода последней части ГП мой главный злодей погиб так же, как Сами-Знаете-Кто в будущем, потому что имел те же слабости. Другими словами, данный факт до сих пор веселит, хотя уже сколько лет прошло (ну, а что? как еще убивать того, кто бессмертен?)
После одной истории началась другая. Стиль повествования менялся. И хотя сами истории, которые приходили на ум в то время, до сих пор нравятся, читать их довольно трудно. Поэтому для всеобщего внимания лишь что-то не очень древнее (пара лет историям)
Давно кто-то сказал, что пока книга не написана, она живет своей жизнью. До сих пор верю, что так и есть. Мне нравится придумывать миры и "наблюдать" за жизнью в них. В основном это фэнтези. Как-то так повелось, что нравятся мне Герои меча и магии, то есть - магия и мечи!
Буквально на днях на author.today была завершена публикация одной из книг. Вот честно, до сих пор не разбираюсь, можно или нет тут постить ссылки на сторонние ресурсы. То кого-то банят, то не банят, то запрещено, то вроде бы и нет. Сам черт ногу сломит, короче, а т.к. не пишу ничего на Пикабу, а только читаю в основном, то ну его, так рисковать в самый первый раз. Без того страшно =)
(если кто-то знающий подскажет, можно или нет, закреплю ссылочку сразу на книгу в комменте ниже)
С первой книгой, точнее циклом, мне смелости не хватило сюда написать. Если кто-то заинтересуется, может посмотреть в профиле на сайте автор.тудей. На вторую смелость едва наскреблась по сусекам, так что сильно не гнобите уж за дрожь в пальцах =)
Ну, и в конце хочется ответить на вопрос: Для чего я это делаю, хотя и боюсь?
Знаете, в свое время, начитавшись вдоволь всего подряд, стало очень трудно искать то, что зацепит. И выходом стало придумывание собственных историй. Все это время у меня был один главный читатель - моя сестра. Ей истории нравились. А с подачи друга (который тоже тут есть, но, наверное, не увидит мой позор) было решено выложить в свое время первую книгу, а потом и следующую. Вроде бы, по отзывам не очень плохо получилось. Хотя, как известно, на вкус и цвет фломастеры и кхм разные, но если кому-то мои истории позволят провести интересный вечер или два, это будет здорово!
Позывные на author.today:
Рэд Кэррот / книга называется "Кузнец богини. Капля в капюшоне"
Доброй ночи, пикабушники!
p/s Так, а в предпросмотре упоминание сайта дает ссылку. Знаю, что разрешены ссылки на новости всякие, а тут хз прямо. Так и хочется сказать - значит ли это, что?... или я сейчас упорхну в места не столь удаленные? =) Рискнем, пожалуй. Чем еще заниматься в полночь, как не рисковать, правда?
Всем привет!
Сегодня хочу вернуться к теме Иудеи в начале нашей эры и сделать дополнительную заметку о всё том же персонаже (и закрыть эту тему окончательно), поэтому историческая часть сегодня будет не слишком большой.
В прошлый раз я рассказала о том, как Иудея вошла в состав римской провинции Сирия, и потомки Ирода Великого утратили статус царей, превратившись в просто этнархов и тетрархов. У Ирода I было, по крайней мере, девять сыновей и пять дочерей. Александр и его родной брат Аристобул IV умерли ещё в 7-м году до н.э., причем второй оставил после себя, по меньшей мере, пятерых детей, в том числе Ирода Агриппу и Иродиаду. Брат Александра и Аристобула Антипатр пережил их всего года на три. Поэтому их отец в своем завещании разделил свои владения между тремя подросшими к тому моменту сыновьями – Архелаем, Филиппом II и Антипой. Ирод Архелай, как я уже упоминала, был сослан ещё Октавианом Августом. А вот прочие остались на Ближнем Востоке и участвовали во всяких междусобойчиках.
Одна из самых известных их семейных историй приключилась с Иродом Филиппом I (он же Ирод Боэт; ок. 27 до н.э. – 33/34 н.э.) и его единокровным братом Иродом Антипой (20 г. до н.э. – после 39г. н.э.). Первый был сыном Ирода от Мариамны (II), дочери первосвященника Симона бен Боэтуса (и её не надо путать с казненной Мариамной из рода Хасмонеев, сыном которой был Аристобул IV), вроде как был лишен наследства и потому жил без понтов, обычным, хотя и не бедным частным лицом, а второй – являлся родным братом сосланного Ирода Архелая, их мать звали Мальфакой (или Мальтака).
К чему я рассказываю все эти семейные подробности? А к тому, что выросшие сыновья Ирода Великого не только не питали к друг другу слишком уж тёплых чувств, но и заключали довольно странные брачные союзы, самое странное в них – это их близкородственность, хотя не только это.
Так вот Ирод (Филипп) I женился на своей племяннице Иродиаде, дочери единокровного брата Аристобула (да-да, той самой), и у них родилась дочь, названная Саломеей, которая будто бы славилась своей красотой и грацией. А потом случилось ещё более странное, и Иродиада ушла от мужа…к его другому единокровному брату – Ироду Антипе. Причем Антипа первым браком был женат на набатейской царевне Фазелис, дочери Ареты IV.
Неизвестно, какая муха его укусила, но, навещая своего брата, он увидал его красавицу-жену и закрутил с ней роман. Причём всё зашло настолько далеко, что Антипа попросту увёл Иродиаду у Филиппа и женился на ней сам. Ну, то есть как женился… Неизвестно, дал ли развод Иродиаде Филипп (судя по всему, нет, но его статус был существенно ниже, чем у Антипы, видимо, тот решил, что можно не заморачиваться поэтому)), а вот сам Антипа с женой, как положено, развестись не сумел. Фазелис, прознав об измене мужа, сбежала в Набатею и нажаловалась папе на такое безобразие. Тот, разумеется, страшно разозлился, и отношения у Антипы с бывшим(?) тестем испортились. Да так, что Арета позже вторгся в его владения (в Галилею и Перею) и разгромил его армию в 36-м году. Не помогла даже дружба с императором Тиберием.
В общем, история стала резонансной и возмутительной, потому что фиг с ним с кровосмешением (инцест – дело семейное), но подобные нарушения супружеской верности и брачных договоренностей – это уже слишком. И одним из главных обличителей этих двоих стал Иоанн Предтеча (годы жизни ок. 6-2 дон.э. – ок. 30 н.э.), предположительно родственник (троюродный брат по матери) и друг Иисуса Христа, который ритуально очистил в водах Иордана будущего Мессию, и проводил подобный обряд со многими другими своими последователями. Чем закончилась эта история с обличительными речами, да и жизнь самого Иоанна, известно – Иродиада подговорила свою дочь, Саломею, станцевать для отчима так, чтоб тот сам предложил исполнить любое её желание, и девушка в награду попросила голову Иоанна. Причем по некоторым версиям Антипа согласился на эту казнь с большой неохотой, а позже, согласно Евангелию от Луки, облачил в светлую одежду Иисуса (чем признал его невиновным) и отправил обратно к Пилату, после чего отношения между Иродом Антипой и Пилатом заметно потеплели.
Однако все помнят, чем всё закончилось в итоге. Судьба не только осужденного, но и тех двоих, что пытались спасти его от креста, сложилась так себе. Так после смерти Тиберия, благодаря интригам брата Иродиады, Ирода Агриппы, Антипа был оговорен и сослан в Лугдунум (нынешний Лион). Иродиада последовала за ним, хотя ей и предлагали остаться под надзором брата, ставшего правителем Иудеи (правил с 37 по 44-й годы). По одной версии Антипа умер в ссылке по естественным причинам, по другой – был убит.
Ирод Агриппа, кстати, был известен ещё и тем, что подверг преследованиям учеников Христа: бросил в темницу Петра и казнил Иакова. Он же наговорил всякого разного на Понтия Пилата, и тот, в конце концов, Луцием Вителлием (отцом будущего императора Вителлия и на тот момент римским легатом в Сирии) был отстранен от должности и отправлен в Рим. Дальнейшая его судьба остается неизвестной. Умер он, очевидно, после 37-го года н.э.
И интересно то, что Понтий Пилат, «раскаявшийся» и «обратившийся, со временем стал героем ряда новозаветных апокрифов, а Эфиопская православная церковь даже канонизировала его жену Прокулу, которую стали отождествлять с христианкой-римлянкой Клавдией, упоминаемой у апостола Павла. В результате возникло двойное имя – Клавдия Прокула. Эфиопская же церковь стала почитать Пилата как святого.
Но сегодня я хочу рассказать о произведении, которое придерживается неканонической точки зрения на другого человека из истории о жизни и смерти Иисуса Христа – об Иуде Искариоте, которого традиционно рассматривают как подлого предателя и лжеца без всяких «но». Однако существуют альтернативные взгляды и на его мотивацию, и на суть его поступка, да такие, что всё начинает выглядеть с точностью до наоборот. В художественной литературе есть произведение, которое преподносит эту историю именно с апокрифических позиций, что и делает его столь необычным:
«Иуда Искариот» Л.Н. Андреева
Время действия: I век н.э., ок. 26-35 гг. н.э.
Место действия: Иудея как часть Римской империи.
Интересное из истории создания:
Существует апокрифический текст («Евангелие Иуды»), который рассказывает историю жизни и предательства Иуды совершенно иначе: Иуда не только был единственным учеником Христа, который правильно и в полной мере постиг его учение и тайны мира, но и выдал его римлянам не по собственному почину, а по настоятельной просьбе своего Учителя.
Эта рукопись была обнаружена в Египте в 1978-м году и написана на коптском языке. Согласно данным радиоуглеродного анализа создана она была в III-IV-м веках н.э. Однако на основе текстологической экспертизы, касающейся особенностей диалектных и заимствованных греческих слов, предполагают, что найденный текст может быть копией, переведенной на коптский язык, утраченного древнегреческого оригинала II-го века н.э. Полностью восстановлен и опубликован найденный кодекс был в 2006-м году.
Интересно тут то, что ещё задолго до того года эту мысль вложил в свою повесть Леонид Николевич Андреев (1871-1919), русский писатель, драматург и фотограф (считается одним из первых, кто в России освоил цветную фотографию), родоначальник русского экспрессионизма и представитель Серебряного века русской литературы.
Повесть «Иуда Искариот» была им написана в 1906-м году, а впервые издана в 1907-м под заглавием «Иуда Искариот и другие» в альманахе «Сборник товарищества „Знание“ за 1907 год», книга 16. При создании этой повести Андреев советовался с М. Горьким, и тот позже о данном произведении отозвался так: «Вещь, которая будет понятна немногим и сделает сильный шум». Что ж, для царской России даже того времени это, должно быть, и впрямь было очень смело.
Вероятно, отчасти данной повестью вдохновлялся Егор Летов при создании песни «Иуда будет в раю». Во всяком случае, когда один из поклонников задал ему вопрос о том, почему Иуда будет в раю, он ответил: «Читайте рассказ Леонида Андреева «Иуда Искариот»».
О чём:
Повесть начинается с краткого пересказа слухов и мнений об Иуде Искариоте, причем характеризовали его как исключительно неприятного и порочного человека. При этом дальнейшее повествование строится так, что выглядит Иуда скорее как человек со странностями и явными психическими проблемами. Другие ученики Христа при этом лишены даже и такой особенности, это обычные, простые, даже заурядные люди, со своими собственными жизнями и обычными приземленными желаниями. Они спорят, хвастаются, забавляются, ведут беседы о высоком или просто о всякой всячине, но при этом не возникает ощущения, что они заняты какими-то духовными поисками. Однако вместе с тем у них с Иудой есть нечто общее – все они преданно следуют за Иисусом, который уже несколько лет странствовал по стране, а незадолго до Пасхи отправился в Иерусалим. По пути с ним и его учениками происходили всяческие истории, приятные и не особо, причем вторых было больше.
Иуда поначалу никому не понравился, и все это явно выражали, но затем, ради своего Учителя, сделали вид, что относятся к нему лучше. Единственный, кто из учеников Христа действительно проникся к нему интересом – это Фома. Первая половина повести во многом посвящена именно их беседам и попыткам Фомы разобраться, что же в самом деле представляет из себя этот странный и некрасивый Иуда. И в какой-то момент Фома стал замечать, что и в словах Иуды есть смысл, и суждения его порой отражают реальность, а, самое главное, Иуда, который «никого не любил», в действительности до потери себя самого любил их Учителя.
Отрывок:
Не смогла удержаться от искушения и не процитировать один из ключевых отрывков:
«…Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:
— Что надо тебе?
Иуда еще раз поклонился и громко сказал:
— Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назарея.
— Так что же? Ты получил свое. Ступай! — приказал Анна, но Иуда как будто не слыхал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:
— Сколько ему дали?
— Тридцать серебреников.
Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:
— Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота, Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.
Каиафа сказал:
— Выгони этого пса. Что он лает?
— Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, — равнодушно сказал Анна.
Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.
— Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? — крикнул Каиафа.
Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:
— А вы знаете... вы знаете... кто был он — тот, которого вчера вы осудили и распяли?
— Знаем. Ступай!
Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их глаза, — и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа — они лишатся ее; у них была жизнь — они потеряют жизнь; у них был свет перед очами — вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!
И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:
— Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.
Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:
— И это все, что ты хотел сказать?
— Кажется, вы не поняли меня, — говорит Иуда с достоинством, бледнея. — Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.
Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:
— Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.
— Что! — кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством. — А кто вы, умные! Иуда обманул вас — вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебреников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, — зачем ты не дал одним серебреником, одним оболом больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки!
— Вон! — закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду:
— Теперь все?
— Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям: звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!
— Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! — насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.
— Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!
И Искариот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:
— Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям.
Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжал его: это Иуда горстью бросал серебреники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с мест, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которою долго шарила в мешке его дрожащая рука, плюнул гневно и вышел.
— Так, так! — бормотал он, быстро проходя по уличкам и пугая детей. — Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее — знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!
Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:
— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал:
— Уходи отсюда! Предатель! Уходи, иначе я убью тебя!
Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:
— Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.
Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:
— Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас — и вот уже трусливые предатели пред вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?
Было что-то властное в хриплом голосе Искариота, и покорно ответил Фома:
— Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.
— Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты — камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?
— Что же могли мы сделать, посуди сам, — развел руками Фома.
— Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! — склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: — Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? мой сын утопает!» — а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!
Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:
— Я обнажил меч, но он сам сказал — не надо.
— Не надо? И ты послушался? — засмеялся Искариот. — Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!
— Кто не повинуется ему, тот идет в геенну огненную.
— Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Геенна огненная — что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел — зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь!
— Молчи! — крикнул Иоанн, поднимаясь. — Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!
— Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хохочут и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на нее — как я!
Иуда гневно плюнул на землю.
— Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! — настаивал Иоанн.
— Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так — целовать крест обещает вам Иуда!..»
Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:
Должна сказать, читать эту повесть было не так-то просто. Не в плане того, что она сложно написана – написана она как раз довольно простым языком – а в плане того, что автор вынуждает следить за Иудой, и ты вот читаешь, и не знаешь, как к этому Иуде относиться. Невольно на ум пришла цитата из того произведения, что я сейчас читаю – «Такие разговоры бывают только во сне: интересный, но бредовый». Вот этими словами можно описать примерно первую часть этой повести. Иуда ведёт себя скорее не как мерзавец, а как тот, у кого не все дома. Но при этом он и не дурак. Он действительно многое понимает, во многом разбирается, но мысль течет у него, мягко говоря, странно, и подобно людям, с которыми он взаимодействовал, я тоже не могла с уверенностью сказать, где гг этой истории реально верил в чушь, которую порол, а где тонко и дерзко стебался, провоцируя окружающих. Особенно показателен был момент, когда Иуда в ответ на подколку заявил:
«— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов; про которого вы говорите?».
И, читая это, я поначалу задалась вопросом о прошлом этого Иуды, и о том, почему он так сказанул о своих родителях. Была ли это всамделишная ненависть, обида и/или месть? Или же чистая провокация? А если то была провокация, то она удалась. Хотя бы тут не буду спойлерить, и рассказывать, какую это вызвало реакцию, и почему это важно в контексте всей повести)
Главные мысли, какие Андреев вложил в «Иуду Искариота», можно было заметить и в романе Мессадье «Человек, который стал богом», но, в отличие от него, Андреев написал об этом реально хлёстко и прямолинейно. То, как рассказывает об этом он, полностью переворачивает всё с ног на голову, потому что получается, что Иисус не столько пошёл на жертву, сколько рискнул, ведь для него пришло время собирать плоды того, что он посеял, и он мог лишь надеяться, что взросло и вызрело именно то, что он надеялся получить. Шанс был.
Настоящую же жертву принёс именно Иуда, ту жертву, на которую, если судить по его обвинениям, не пошли остальные ученики Христа. Если прочитать повесть, то становится понятно, как многим он пожертвовал, чтобы исполнить волю своего Учителя, в то время, как остальные вроде бы и соблюдали всё, что им заповедовали, и в то же время смалодушничали и главное так и не сделали – не отреклись во имя своих любви и веры от самих себя, от того, что было важно и желанно для них, не сумели отбросить свои страхи. И опять же, от этого они не выглядят какими-то мерзкими предателями, они по-прежнему выглядят просто обычными людьми, которых попытались вознести на слишком большую высоту, хотя они к тому оказались не готовы. И это очень интересно, если вспомнить, как сложились жизни и судьбы апостолов в последующие десятилетия.
На меня эта повесть произвела большое впечатление, хотя читать её было трудно, и, если подходить к ней философски, то тут находится очень много подводных камней и неоднозначностей. Я понимаю, что, по всей видимости, имел в виду автор, что он мог иметь в виду, но то, как он это преподнес делает эти мысли, скажем так, не бесспорными. Короче я рекомендую ознакомиться, чтобы, как минимум, составить собственное мнение. А если найти других прочитавших, то можно зависнуть за философскими беседами на вечерок-другой, причем крутиться они будут вовсе не вокруг религии, а именно вокруг человеческих взаимоотношений, идей и идеалов. Не каждая книга так может. А эта ещё и по объёмам небольшая.
Полный список постов пока выглядит как-то так:
И я дублирую вопрос из прошлого поста с заделом на будущее:
Дальше, через пару заметок, рассказывать буду только о нашей эре. Вопрос вот в чём - стоит ли продолжать сквозную нумерацию постов или лучше начать вторую часть с нумерацией от №1 и т.д. для нашей эры?
Тем, кто уже проголосовал, от меня большое спасибо! Для тех, кто в прошлые разы опрос не заметил, отличный шанс проголосовать теперь - вместе мы можем сделать подачу материала удобнее. После этого опроса уже приму какое-то решение, и либо продолжу нумеровать в дальнейшем порядке, либо обновлю нумерацию.
Начну со старой писательской байки. Однажды, еще до войны, Агния Барто по путевке Союза писателей заселялась в какой-то подмосковный санаторий, где уже отдыхали Чуковский и Маршак.
Провожая ее в номер, дежурная по этажу - малограмотная старушка из соседней деревни - рассказывала ей:
- А вы тоже, значит, из этих, из писателей? Тоже стихи для детей пишете?
- Ну да.
- И в зоопарке тоже подрабатываете?
- В каком зоопарке?
- Ну как же? Мне этот ваш, как его, Маршак рассказывал. Доход, говорит, у поэтов непостоянный, когда густо, когда пусто. Приходится в зоопарке подрабатывать. Я, говорит, гориллу изображаю, а Чуковский - ну, тот длинный из 101-го номера - тот, говорит, жирафом работает. А что? Почти по профессии, что там, что там - детишек веселить. И плотют хорошо! Горилле 300 рублей, а жирафу - 250. Это ж какие деньжищи за подработку в Москве плотют...
На следующий день Барто встретила Чуковского и смеясь, рассказала ему про розыгрыш Маршака. Корней Иванович хохотал как ребенок, а потом вдруг резко погрустнел и сказал:
- И вот всю жизнь так: если ему - 300, то мне - 250!
Чуковского и Маршака вообще связывали странные отношения. Они были знакомы с молодости и всегда не только признавали, но и очень высоко ценили талант друг друга - и в поэзии, и в прозе, и в переводе. По сути, каждый считал второго своим единственным достойным соперником, но по этой же причине оба поэта крайне ревниво следили друг за другом всю жизнь. И если чувствовали, что в данный момент проигрывали этот пожизненный забег "заклятому другу", могли и ляпнуть в его адрес что-нибудь обидное.
Творческие люди - они такие.
Именно по этой причине на свет появилась одна из известных эпиграмм на Маршака.
Уезжая на вокзал,
Он Чуковского лобзал,
А, приехав на вокзал,
"Чуковский - сволочь!" - он сказал.
Вот какой рассеянный,
С улицы Бассейной!
Но все это было, конечно, не всерьез.
Всерьез они поссорились во время войны.
Маршак тогда остался в Москве, работал дома, и лишь когда объявляли воздушную тревогу, стучал в стенку домработнице - аккуратной и чопорной поволжской немке и кричал на весь дом: «Розалия Ивановна, ваши прилетели, пойдемте в убежище».
Чуковский же уехал в эвакуацию, в Ташкент, где сильно маялся. Доход у поэтов действительно не стабилен, вот он и писал в дневнике:
"Я опять на рубеже нищеты. Эти полтора месяца мы держались лишь тем, что я, выступая на всевозможных эстрадах, получал то 100, то 200, то 300 рублей. Сейчас это кончилось. А других источников денег не видно. Лида за все свое пребывание здесь не получила ни гроша".
Там, в Ташкенте, он и решил заняться тем, чего не делал уже много-много лет - написать для детей новую сказку в стихах.
Сказка "Одолеем Бармалея" писалась тяжело.
И чисто технически не шло:
"Сперва совсем не писалось… Но в ночь на 1-ое и 2-ое марта — писал прямо набело десятки строк — как сомнамбула. Я писал стихами скорей, чем обычно пишу прозой; перо еле поспевало за мыслями. А теперь застопорилось. Написано до слов:
Ты, мартышка-пулеметчик…
А что дальше писать, не знаю".
И общий настрой был неважным - ташкентская эвакуация оказалась одним из самых тяжелых периодов в жизни сказочника:
"День рождения. Ровно 60 лет. Ташкент. Цветет урюк. Прохладно. Раннее утро. Чирикают птицы. Будет жаркий день. Подарки у меня ко дню рождения такие. Боба пропал без вести. Последнее письмо от него — от 4 октября прошлого года из-под Вязьмы. Коля — в Ленинграде. С поврежденной ногой, на самом опасном фронте. Коля — стал бездомным: его квартиру разбомбили. У меня, очевидно, сгорела в Переделкине вся моя дача — со всей библиотекой, которую я собирал всю жизнь. И с такими картами на руках я должен писать веселую победную сказку".
Тем не менее, к лету сказка была закончена. Тяжелая депрессия Чуковского серьезно сказалась на тексте - сказка о войне Айболита с Бармалеем получилась очень злой, чем-то вроде "Убей немца" для самых маленьких. Доброты вышедших чуть позже "12 месяцев" Маршака там не было и в помине.
Дальше... Дальше началось все то, что обычно происходит с творениями живых классиков.
"Одолеем Бармалея" ушла для публикации в Ташкентское отделение издательства «Советский писатель», в начале августа отрывки были напечатаны в «Правде Востока», а потом, в августе-сентябре, состоялась и первая полная публикация — в главной детской газете страны, в «Пионерской правде».
В 1943 году сказка вышла отдельными изданиями в Ереване, в Ташкенте и Пензе, она вошла в план публикаций журнала "Огонек", а директор Гослитиздата П. И. Чагин собирался включить отрывок из сказки в антологию советской поэзии к 25-летию Октябрьской революции.
А потом случилось неожиданное.
Антологию принесли показать Сталину. Вождь, сам в юности не чуждый поэзии, внимательно изучил книгу, вычеркнул оттуда достаточно много стихов (в том числе и посвященных ему) и написал в вердикте, что "никакая это не антология, а сборник стихов". Так - автографом вождя - новое название книжки и было воспроизведено на обложке.
Сказку Чуковского "Одолеем Бармалея" вождь из сборника тоже выбросил. И, судя по всему, попросил разобраться.
Так или иначе, но в № 52 газеты "Правда" от 1 марта 1944 года появилась статья одного из главных тогдашних советских идеологов, директора Института философии АН СССР, профессора и член-корра Павла Юдина под названием "Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского".
В выражениях автор не стеснялся, но, открою вам тайну - в те времена выражений не выбирал никто. Тогда почти вся критика была такой.
Но при этом будущий академик Юдин не только ругался, но и писал довольно разумные вещи:
"Лягушата, зайцы, верблюды, белки, журавли захватили у агрессора трофеи: сто четыре батареи, триста ящиков гранат, полевой аэростат, сто двадцать миллионов нерасстрелянных патронов.
И получается у Чуковского полное искажение реальных представлений. Зачем, спрашивается, лягушкам и зайцам бомбардировщики, мотоциклы, велосипеды? Как ребенок может представить, что лягушонок управляет настоящим танком, или воробья, едущего на мотоцикле, а утенок стреляет из тяжелых орудий?".
И в этом вопросе, честно говоря, я на стороне сталинских сатрапов. Потому что в сказке у Чуковского реальная жесть. У него там акула на суше командует артиллерийской батареей, рядом с нею - лягушка-пулеметчица
и тут же - три орлицы-партизанки, сперва сбивающие танки, а потом катающиеся в них. Ну и апофеозом - мой любимый образ - орангутанги на волках с минометами в руках.
Тут даже художник не выдержал, и минометы заменил.
Проблема не в неудачных образах, проблема в том, что кроме лютого - именно лютого - бреда в сказке мало что есть.
Вышел доктор на балкон,
Тихо в небо глянул он:
«Да над нами самолёт,
В самолёте — бегемот,
У того у бегемота
Скорострельный пулемёт.
Он летает над болотом,
Реет бреющим полетом,
Чуть пониже тополей,
И строчит из пулемёта
В перепуганных детей».
Вопросы жмут мне череп. Почему в самолет посадили именно бегемота? Это что - намек на Геринга? Как у Чуковского получилось засадить болото тополями? И, самое главное - что делали в болоте перепуганные дети?
Если вы думаете, что я придираюсь - я не придираюсь. Там все так! на фоне этого бреда экзекутор Юдин, интересующийся, можно ли "убедить ребенка, что добрый и храбрый воробей сбил настоящий бомбардировщик" выглядит добрым дедушкой.
И все это приправлено какой-то запредельной жестью.
Один конец Бармалея дорогого стоит.
"И примчалися на танке
Три орлицы-партизанки
И суровым промолвили голосом:
«Ты предатель и убийца,
Мародёр и живодёр!
Ты послушай, кровопийца,
Всенародный приговор:
НЕНАВИСТНОГО ПИРАТА
РАССТРЕЛЯТЬ ИЗ АВТОМАТА
НЕМЕДЛЕННО!»
И сразу же в тихое утро осеннее,
В восемь часов в воскресение
Был приговор приведён в исполнение.
И столько зловонного хлынуло яда
Из чёрного сердца убитого гада,
Что даже гиены поганые
И те зашатались, как пьяные.
Упали в траву, заболели
И все до одной околели.
А добрые звери спаслись от заразы,
Спасли их чудесные противогазы.
В общем, автор статьи в "Правде" резонно замечает, что автору сказки глобально изменил вкус. Статья заканчивается двумя фразами: "«Военная сказка» К. Чуковского характеризует автора, как человека, или не понимающего долга писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма. Ташкентское издательство сделало ошибку, выпустив плохую и вредную книжку К. Чуковского".
Чуковский попытался запустить контр-волну поддержки, собирал подписи, но успеха не имел. Издания 1943 года оказались последними.
Сказку "Одолеем Бармалея" убрали из верстки готовившегося авторского сборника «Чудо-дерево» и больше в Союзе никогда не издавали, переиздания пошли только в новой России.
Но именно во время сбора подписей два детских поэта разругались всерьез. Прочитавший сказку Маршак отказался подписывать письмо в поддержку, и мстительный Чуковский записал в дневнике:
"Маршак вновь открылся предо мною как великий лицемер и лукавец - не подписал бумаги, которую подписали Толстой и Шолохов. Дело идет не о том, чтобы расхвалить мою сказку, а о том, чтобы защитить ее от подлых интриг Детгиза. Но он стал "откровенно и дружески", "из любви ко мне" утверждать, что сказка вышла у меня неудачная, что лучше мне не печатать ее, и не подписал бумаги… Сказка действительно слабовата, но ведь речь шла о солидарности моего товарища со мною».
Маршак, об обидчивости которого ходили легенды (однажды он всерьез запретил приводить к нему 4-летнюю девочку, сказавшую, что "Человека Рассеянного" написала ее няня) об этом прослышал и тоже записал Чуковского в персоны нон-грата.
Пятнадцать лет они не здоровались, но в оба глаза и оба уха следили друг за другом. У Райкина есть очень смешные воспоминания, как он ходил в гости к сперва к одному, замет к другому, очень рекомендую ознакомиться, гуглить по фразе «Клара Израилевна, а валенки? Крепостное право у нас дома еще никто не отменял!».
Помирились старики только на 75-летие Чуковского. Тяжело болевший Маршак прийти не смог, но прислал знаменитое «Послание семидесятипятилетнему К. И. Чуковскому от семидесятилетнего С. Маршака»
Мой старый, добрый друг Корней
Иванович Чуковский!
Хоть стал ты чуточку белей,
Тебя не старит юбилей:
Я ни одной черты твоей
Не знаю стариковской.
Потом был большой кусок в стиле "бойцы вспоминают минувшие дни, и битвы, где храбро рубились они", а заканчивалось все так:
Кощеи эти и меня
Терзали и тревожили
И все ж до нынешнего дня
С тобой мы оба дожили.
Могли погибнуть ты и я,
Но, к счастью, есть на свете
У нас могучие друзья,
Которым имя — дети!
Растроганный Чуковский тем же вечером написал ответное письмо:
«Дорогой Самуил Яковлевич. Как весело мне писать это слово. Потому что — нужно же высказать вслух — между нами долго была какая-то стена, какая-то недоговоренность, какая-то полулюбовь. <...> От всей души протягиваю Вам свою 75-летнюю руку — и не нахожу в себе ничего, кроме самого светлого чувства к своему старинному другу».
Ну а старый спор двух сказочников о доброй и злой сказке давно рассудил самый беспристрастный судья - время.
Злую сказку "Одолеем Бармалея" знают только литературоведы. А добрая сказка "12 месяцев" - давно и прочно вошла в наш культурный код.
А все почему?
Потому что старый и мудрый Маршак прекрасно знал одну нехитрую истину, которую убитый горем Чуковский забыл.
Дети, которых учат мечтать, всегда идут дальше и делают больше, чем дети, которых учат ненавидеть.
_________________________
Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame
Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history
Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741
Думаю, было бы классно, если в каждом городе России были бы такие Книжные клубы
1 апреля исполнилось 215 лет со дня рождения писателя.
Когда первую поэму Николая Гоголя раскритиковали современники, он выкупил и сжег весь тираж. Следующее произведение, «Вечера на хуторе близ Диканьки», сделало писателя знаменитым: историями о нечистой силе восхищались Александр Пушкин и Василий Жуковский.
«Ревизор» и «Мертвые души», повести «Невский проспект» и «Шинель» — Гоголь высмеивал пороки и писал о «маленьком человеке». Литератор Сергей Аксаков говорил: «Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени».
Николай Гоголь родился в селе Сорочинцы Полтавской губернии, которая на тот момент входила в состав Российской империи. Его отец, Василий Гоголь-Яновский, был коллежским асессором и служил на почте, но в 1805 году вышел в отставку, женился и стал заниматься хозяйством. Вскоре он подружился с бывшим министром Дмитрием Трощинским, который жил в соседнем селе. Вместе они создали домашний театр.
Дом доктора Трохимовского в Сорочинцах, где родился Николай Гоголь. Великие Сорочинцы, Полтавская область, Украина. Иллюстрация к книге Иосифа Хмелевского «Гоголь на Родине: Альбом художественных фототипий и гелиогравюр». Киев, 1902
Гоголь-Яновский сам писал комедии для представлений на украинском языке, а сюжеты брал из народных сказок. Мария Косяровская вышла за него замуж в 14 лет и посвятила себя семье. Она вспоминала: «Я не выезжала ни на какие собрания и балы, находя все счастье в своем семействе; мы не могли разлучаться друг от друга ни на один день, и когда он ездил по хозяйству в поле в маленьких дрожках, то всегда брал меня с собою».
Николай Гоголь был третьим ребенком в семье, первые двое сыновей родились мертвыми. Будущего писателя назвали в честь святого Николая: незадолго до родов мать молилась именно ему. Позже в семье появилось еще восемь детей, однако в живых остались только дочери Мария, Анна, Елизавета и Ольга. Гоголь много времени проводил с сестрами и даже занимался с ними рукоделием: кроил занавески и платья, вышивал, вязал спицами шарфы. Ольга вспоминала: «Он ходил к бабушке и просил шерсти, вроде гаруса, чтобы выткать поясок: на гребенке ткал пояски». Он рано увлекся и сочинительством. Отец брал его в поля и дорогой давал темы для стихотворных импровизаций: «степь», «солнце», «небеса». В пять лет Гоголь уже начал сам записывать свои произведения. Мать была суеверной и вечерами часто рассказывала детям истории про леших, домовых и нечистую силу.
Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. Вдруг мяуканье кошки нарушило тяготивший покой. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. «Киса, киса», — пробормотал я и, схвативши кошку побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом.
Григорий Данилевский. Собрание сочинений, XIV, 119. Рассказ со слов Гоголя
Когда Гоголю исполнилось десять лет, родители привезли его в Полтаву, к одному из преподавателей местной гимназии. Будущий писатель жил в доме учителя и готовился к поступлению в пансион: занимался арифметикой, читал книги по истории, работал с картами.
В 1821 году Николай Гоголь поступил в Нежинскую гимназию высших наук. Он не был прилежным: часто отвлекался на уроках и занимался только перед экзаменами. Преподаватель латыни Иван Кулжинский вспоминал: «Он учился у меня три года и ничему не научился… Во время лекций Гоголь всегда, бывало, под скамьею держит какую-нибудь книгу и читает». Любимыми предметами будущего писателя были рисование и русская словесность. Он восхищался Александром Пушкиным. Когда в 1825 году вышли первые главы «Евгения Онегина», то Гоголь перечитывал их столько раз, что выучил наизусть. Сочинял он и сам. Произведения — поэму «Разбойники», повесть «Братья Твердиславичи» — он размещал в собственном рукописном журнале «Звезда».
Никто не думал из нас, чтобы Гоголь мог быть когда-либо писателем даже посредственным, потому что он известен был в лицее за самого нерадивого и обыкновенного слушателя. <…> Довольно бывало ему сказать одно слово, сделать одно движение, чтобы все в классе, как бешеные или сумасшедшие захохотали в одно горло, даже при учителе, директоре.
Николай Сушков, драматург
Николай Гоголь создал в гимназии театр. Он выбирал пьесы, распределял роли и расписывал декорации. Актерами становились ученики, они же приносили кто что мог в «театральный гардероб». Одной из самых популярных пьес был «Недоросль» по Фонвизину — Гоголь играл госпожу Простакову. Сокурсник писателя Тимофей Пащенко вспоминал: «Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный талант и все данные для игры на сцене».
В 1825 году у Гоголя умер отец. Гимназист тяжело переживал потерю. Его мать вспоминала: «Я детям не могла писать о нашем несчастии и просила письменно директора в Нежине приготовить к такому удару моего сына; он в таком был горе, что хотел броситься в окно с верхнего этажа». После смерти отца начались проблемы с деньгами: мать не умела управлять хозяйством. Тогда Гоголь сначала предложил продать лес, который по завещанию принадлежал ему, а потом и вовсе отказался от наследства в пользу сестер.
Экземпляр «Ганца Кюхельгартена» с дарственной надписью Николая Гоголя историку Михаилу Погодину. 1829
В 1827 году Гоголь сочинил поэму «Ганц Кюхельгартен» о юноше, который отверг любовь ради мечты о Греции. Спустя год писатель окончил Нежинскую гимназию и решил отправиться в Петербург. Он писал дяде Петру Косяровскому: «Признаюсь, меня не берет охота ворочаться когда-либо домой, особливо бывши несколько раз свидетель, как необыкновенная мать наша бьется, мучится, иногда даже об какой-нибудь копейке. <…> Я с своей стороны все сделал, денег беру с собой немного, чтобы стало на проезд и на первое обзаведение».
В декабре 1828 года Николай Гоголь приехал в Петербург устраиваться на службу. Он вспоминал: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал гораздо красивее, великолепнее. <…> Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали. <…> Это заставляет меня жить как в пустыне. Я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия — видеть театр». Писатель не мог найти работу: выпускника Нежинской гимназии либо не хотели принимать, либо предлагали слишком маленькое жалованье.
В 1829 году Гоголь написал стихотворение «Италия» и без подписи отправил в журнал «Сын Отечества». Произведение опубликовали, и это придало уверенности литератору. Он решил напечатать и гимназическую поэму «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов. Однако в этот раз книга не расходилась: сочинение раскритиковали за наивность и отсутствие композиции. Тогда Николай Гоголь выкупил весь тираж у книгопродавцев и сжег. После неудачи он пробовал стать актером и был на прослушивании у директора Императорских театров Сергея Гагарина. Но писателя не взяли. Гоголь вспоминал: «Мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места. <…> Везде совершенно я встречал одни неудачи и — что всего страннее — там, где их вовсе нельзя было ожидать. <…> Какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня ничего не было в мире». Летом 1829 года он уехал в путешествие по Германии.
Петр Геллер. Николай Гоголь и Василий Жуковский у Александра Пушкина в Царском Селе (фрагмент). 1910
Осенью 1829 года Николай Гоголь вернулся в Петербург. Денег не хватало, и он устроился помощником столоначальника в департамента уделов. Писатель был коллежским асессором — самый младший чин в Табели о рангах. Гоголь писал матери: «После бесконечных исканий, мне удалось, наконец, сыскать место, очень, однако ж, незавидное. Но что ж делать?» Литератор принимал жалобы, сшивал документы и выполнял мелкие поручения начальства, а в свободное время сочинял повести об украинской жизни. За помощью Гоголь обратился к матери: «Сделайте милость, описуйте для меня также нравы, обычаи, поверья… какие платья были в их время у сотников, их жен, у тысячников, у них самих, какие материи были известны в их время, и все с подробнейшею подробностью». В 1830 году в журнале «Отечественные записки» писатель опубликовал повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы». Текст сильно отличался от оригинала: издатель Павел Свиньин отредактировал произведение на свой вкус.
Натан Альтман. Николай Гоголь в Санкт-Петербурге (фрагмент). Иллюстрация к «Петербургским повестям» Николая Гоголя. 1934
Постепенно Гоголь все больше писал для журналов. В 1831 году в «Литературной газете» вышли материалы «Несколько мыслей о преподавании детям географии» и «Женщина», а в альманахе «Северные цветы» появились главы исторического романа «Гетьман». Владельцем обоих изданий был Антон Дельвиг. Поэт ввел молодого автора в литературный круг и познакомил с Василием Жуковским и Петром Плетневым. Писатели помогли найти Николаю Гоголю новую работу: он стал учителем в женском Патриотическом институте, а в выходные давал частные уроки детям знатных дворян. Параллельно литератор работал над серией повестей об Украине.
В 1831 году вышла книга Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», куда вошло четыре рассказа: «Сорочинская ярмарка», ранее опубликованный «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Пропавшая грамота». Действие книги происходило на родине автора, в Миргородском районе Полтавской губернии. Героями были жители украинской деревни, а в сюжете повседневная жизнь смешивалась с мистическими мотивами, которые были в ходу у селян. Сборник сразу же стал популярным и получил хорошие отзывы читателей: автора хвалили поэты Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Иван Киреевский и многие другие. Баратынский писал: «Еще не было у нас автора с такою веселостью, у нас на севере она великая редкость… <…> Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса». А Пушкин в письме Александру Воейкову оставил такой отзыв о Гоголе:
Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что… наборщики помирали со смеху, набирая его книгу.
Николай Гоголь. «Миргород. Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки». Часть вторая. Санкт-Петербург: Типография Департамента Внешней Торговли, 1835
Уже в 1832 году Гоголь выпустил второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Туда вошли еще четыре повести: «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Заколдованное место». Новая книга повторила успех. Гоголя приглашали на все литературные вечера, он часто виделся с Александром Пушкиным. Летом 1832 года писатель решил проведать родных и по пути впервые побывал в Москве, где познакомился с публицистами Сергеем Аксаковым и Михаилом Погодиным, актером Михаилом Щепкиным. Из дома Гоголь писал: «Приехал в имение совершенно расстроенное. Долгов множество невыплаченных. Пристают со всех сторон, а уплатить теперь совершенная невозможность».
В 1834 году писателю предложили место адъюнкт-профессора на кафедре всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. Николай Гоголь согласился. Днем он читал лекции о Средневековье и периоде Великого переселения народов, вечером — изучал историю украинских крестьянско-казацких восстаний. Все свободное время писал. В 1835 году вышел еще один сборник Гоголя под названием «Арабески», который объединил произведения разных жанров. Одной из самых популярных в книге стала статья «Несколько слов о Пушкине». В ней Гоголь проанализировал его творчество и назвал Пушкина первым русским национальным поэтом. В «Арабесках» напечатали и первые петербургские повести Гоголя: «Портрет», «Записки сумасшедшего» и «Невский проспект». В сборнике также были статьи на историческую тематику: «Взгляд на составление Малороссии», «О преподавании всеобщей истории», «Ал Мамун» и другие.
Борис Лебедев. Критик Виссарион Белинский и Николай Гоголь (фрагмент). Открытка из серии «В.Г. Белинский в рисунках Б. Лебедева». Москва: Искусство, 1948
Через месяц после сборника «Арабески» у Гоголя вышла еще одна книга — «Миргород». Это было продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: писатель использовал элементы украинского фольклора, а само действие происходило в Запорожье. В «Миргород» вошли повести «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Во время работы над произведениями Гоголь использовал свои научные наработки. Так, «Тарас Бульба» был основан на материале о крестьянском восстании 1637–1638 годов, а прообразом главного героя стал атаман Охрим Макуха.
Весь тираж сборников «Арабески» и «Миргород» быстро раскупили. Критик Виссарион Белинский писал: «Его талант не упадает, но постепенно возвышается. <…> Новые произведения игривой и оригинальной фантазии г. Гоголя принадлежат к числу самых необыкновенных явлений в нашей литературе и вполне заслуживают те похвалы, которыми осыпает их восхищенная ими публика».
В 1835 году Николай Гоголь начал писать «Мертвые души». Сюжет произведения подсказал Пушкин: во время кишиневской ссылки ему рассказали про помещика, который выдавал умерших за беглецов. Спустя несколько месяцев Гоголь уже читал поэту первые главы произведения. Из книги «Выбранные места из переписки с друзьями»: «Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Однако вскоре Гоголь забросил работу над романом.
Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать.
Николай Гоголь, писатель
Осенью 1835 года Николай Гоголь уволился из университета. Он решил профессионально заняться литературой и попробовать сочинить пьесу. Писатель обратился с письмом к Пушкину: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать комедию… Духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, куда смешнее черта! Ради бога, ум и желудок мой оба голодают». Поэт рассказал Гоголю историю о господине, который выдал себя за высокопоставленного чиновника. Она и легла в основу комедии «Ревизор». По сюжету коллежский регистратор Хлестаков проиграл деньги в карты и случайно оказался в уездном городе. Городничий, смотритель училищ, почтмейстер, судья и многие другие служащие приняли его за ревизора. Они старались скрыть реальное положение дел и давали Хлестакову взятки.
В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем.
Николай Гоголь, писатель
В 1836 году Гоголь закончил комедию и прочитал ее в гостях у Василия Жуковского. Среди слушателей были Александр Пушкин, Петр Вяземский, Иван Тургенев и другие. Писателю посоветовали обязательно поставить пьесу в театре. Однако добиться разрешения на спектакль удалось только с протекцией Жуковского: комедия не проходила цензуру, и поэту пришлось лично уговаривать императора. Спустя несколько месяцев Гоголь приступил к репетициям в Александринском театре в Петербурге. Он рисовал схемы расположения актеров на сцене, давал рекомендации режиссеру и художникам по костюмам. На премьеру комедии в мае 1836 года пришел император Николай I вместе с наследником Александром. Постановка настолько понравилась государю, что он велел в обязательном порядке посетить ее министрам.
Рисунки Николая Гоголя к комедии «Ревизор». Иллюстрация к книге Иосифа Хмелевского «Гоголь на Родине: Альбом художественных фототипий и гелиогравюр». Киев, 1902
«Ревизор» вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Гоголь вспоминал: «Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня. Бранят и ходят на пиесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пиеса моя не была бы ни за что на сцене». Через несколько недель комедию сыграли и в Москве. Там ее ставил друг Гоголя — актер Михаил Щепкин.
Петр Каратыгин. Николай Гоголь на репетиции «Ревизора» в Мариинском театре 18 апреля 1836 (фрагмент)
В это же время вышел первый выпуск журнала «Современник», издателем которого стал Пушкин. В номере напечатали повесть Николая Гоголя «Нос» о чиновнике, который в одно утро потерял нос, а с ним и возможность повышения. Здесь же вышло произведение «Коляска». По сюжету вечером помещик Чертокуцкий расхвалил экипаж и пообещал продать его генералу, а утром от стыда спрятался от покупателя: карета оказалась «самой неказистой».
Вскоре после премьеры «Ревизора» Гоголь срочно уехал в Германию. Свою поездку он объяснял так: «После разных волнений, досад и прочего мысли мои так рассеяны, что я не в силах собрать их в стройность и порядок. <…> Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. <…> Выведи на сцену двух-трех плутов — тысяча честных людей сердится, говорит: «Мы не плуты». Он побывал в Швейцарии, затем переехал в Париж. Там Гоголь продолжил писать роман «Мертвые души», на который у автора не хватало времени в Петербурге. В феврале 1837 года погиб Пушкин. Писатель тяжело переживал смерть поэта. Полковник Андрей Карамзин писал: «Трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него». Однако вместо России Гоголь поехал в Италию. Там в 1841 году он закончил первый том романа «Мертвые души» и, чтобы напечатать произведение, через несколько месяцев вернулся в Москву. Писатель поселился в доме у историка Михаила Погодина.
Цензура допустила «Мертвые души» к печати весной 1842 года. Обложку для издания Гоголь оформил сам. История Чичикова, которые ездил по России и скупал у помещиков бумаги на умерших крестьян, вызвала разные отклики читателей. Друг Николая Гоголя Сергей Аксаков вспоминал: «Все слушатели приходили в совершенный восторг, но были люди, которые возненавидели Гоголя… Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил… что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». Всего Гоголь задумывал написать три тома «Мертвых душ». Писатель ориентировался на идею Данте Алигьери: Чичиков, подобно герою «Божественной комедии», во время путешествий должен был измениться и пересмотреть свои понятия о нравственности.
В 1842 году вышло еще одно произведение Гоголя — повесть «Шинель». Действие происходило в Петербурге. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин целыми днями переписывал бумаги за маленькое жалованье. Однажды у него порвалась шинель, и служащий стал копить на новую: прекратил пить чай, ходил дома в халате, чтобы не износить другую одежду. Однако, когда он наконец скопил и купил новую шинель, «какие-то люди с усами» отобрали ее на улице.
В июне 1842 года Гоголь снова уехал за границу. Рим, Дюссельдорф, Ницца, Париж — писатель часто переезжал. В это время он работал над вторым томом «Мертвых душ». Гоголь писал: «Критика теперь сама должна отплатить мне за все, что я потерял через нее. А потерял я очень многое; ибо бойкость и оживленный огонь, которые были во мне, прежде нежели мне было известно хоть одно правило искусства, уже несколько лет ко мне более не являлись». В 1845 году у Гоголя случился душевный кризис. В порыве он сжег второй том «Мертвых душ» и все свои рукописи. Практически перестал писать друзьям, а в 1848 году отправился в Иерусалим. Гоголь вспоминал: «Еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. У Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия».
Борис Кустодиев. Иллюстрация к повести Николая Гоголя «Шинель». Акакий Акакиевич в новой шинели идет в департамент (фрагмент). 1909
В 1849 году писатель вернулся в Россию и принялся по памяти восстанавливать утраченный том «Мертвых душ». Однако вскоре он начал жаловаться на припадки тоски. В январе 1852 года умерла давняя знакомая Гоголя, Екатерина Хомякова. Писатель перестал есть, признался духовнику, что его «охватил страх смерти», и прекратил писать. В ночь с 11 на 12 февраля этого же года Николай Гоголь сжег все свои рукописи, включая почти восстановленную версию «Мертвых душ». Последние дни он не выезжал из дома. 21 февраля 1852 года писатель скончался. Его похоронили на Даниловском кладбище в Москве. В 1931 году могилу Гоголя вскрыли и его останки перенесли на Новодевичье кладбище.