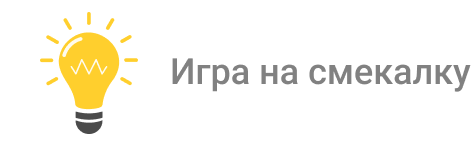Эх, Ржавый-Ржавый
Мне ради пропитания приходится постоянно крутиться. Гришка Ефимов говорит, давай, мол, к нам на завод. А я на завод не хочу, потому что туда вставать рано надо. Завод — он не для меня. Тем более, когда Ефимов сам на завод устроился, вокруг него быстро образовалась жена и двое детей. А до этого так же жёны и дети образовывались вокруг всех, кто попадал на завод. Я вообще думаю, что это разнарядка у них такая: заводчанам жён и детей вместо тринадцатой зарплаты выдают.
Я бы в офис какой пошёл, может быть, но у нас на посёлке офисов нет. Был один. Вернее, мы так пятачок у круглосуточного магазина называли, пока тот не закрылся. Если надо дело какое обстряпать, иди «на офис», потому что там серьезных людей найти можно. Какие дела на пятачке обстряпывались я вам не скажу: вам это ни к чему знать, а почему магазин закрылся — поделюсь. Тем годом доллар опять скаканул, а продавщица Зинка в долг отоваривала по старому курсу. Ашот Степаныч, владелец магазина, не выдержал конкуренции между растущей валютой и Зинкиной добротой, предприятие своё закрыл, кинул на прощание «абанамать ваш всех рот» и уехал из города.
Я тоже раньше «на офис» ходил, чтобы пропитание добывать, а как место обезлюдело, пришлось способы искать. Но они — способы, значит — нашлись быстро.
Вот, бывает, зайду в подъезд, присмотрю дверь побогаче, чтоб стальная и с обивкой из дуба, скину кошелёк. Подожду, шума наведу на лестничной клетке, а сам тем временем на пару пролетов выше заберусь. Если дверь никто не открыл, то кошелёк подбираю и иду к следующей. Если открыли, жду ещё пару минут, спускаюсь к двери. Стучусь.
Тут главное, чтоб не жлоб какой дверь открыл. Потому что жлобы до чужого сильно охочи. Тётенька или интеллигент — самое то. Я раз на жлоба нарвался. Такой, знаете, с мордой в шкаф размером, а сам поперёк себя шире. Говорю ему: «Дядь, я тут кошелёк, кажется, обронил, ты не видел?», а он щеками крутит в разные стороны, не видел, мол. Я думаю, как же ты, селезень, не видел, если я его тебе сам под дверь положил и две сотки внутри оставил? А вслух, ессно, говорю: «Я студент, у меня там стипендия, до следующей далеко, жить не на что». Он стоит, невозмутимый как депутат, и отнекивается. Не видел — и все тут! Я в тот раз чуть в драку не полез, чесслово. Вы не смотрите, что я худой и бледный. Худые всегда до конца дерутся.
Вот мне раз тетенька попалась хорошая. Я ей говорю, что кошелёк выронил, а она, конечно-конечно, и сует мне обратно. Я говорю: «Тёть, но тут ещё тысяча была! Я студент, мне до следующей стипендии жить не на что. А вечером еще девушку хотел в кино сводить». Вообще, я в случае чего могу и слезу припустить. Наверное. Но там слеза не понадобилась. Тётка и так расщедрилась. Даже сверху заявленной тысячи пятьсот дала.
Вообще по подъездам в этом смысле промышлять легче. На улице кошелёк могут увести, что сам не заметишь, а в четырех стенах далеко не убежишь. А если мы с Чипой на дело идём, то вообще целая психология начинается. Чипа — это мой кореш, мы с ним оба детдомовские, только он на год старше.
Встанем у остановки или дома какого и ждём. Видим, идет клиент. Тут главное, чтобы, во-первых, клиент курящий был, во-вторых, теснота способствовала. Поравняется он с тобой, а ты ему рукавом по сигаретке — раз! И начинаешь: «Слушай, друг, ты мне куртку припалил!», и, пока клиентик не очухался, нагнетаешь: «Куртка-то новая! На неделе только взял. Что делать будем, а? Рассчитаться надо, друг». Тут Чипа подплывает с вопросом, что, мол, шумите? Я ему разыгрываю про подпаленную куртку. Тогда Чипа за дело принимается: «Да, куртка, видно, дорогая. И что теперь делать? Дырень вон какая. Рассчитаться бы надо, друг». Главное — в паре работать. Один попался больно дерзкий, но мы быстро объяснили хаму, что дерзить вредно для здоровья.
На самом деле заработок хоть и есть, даже стабильный, но всё равно мало. Потому что душа молодого человека всегда кроме пропитания требует всякого. Я вот, например, конструкторы «Лего» коллекционирую, а Чипа, он до женского поло падкий больно. Вы не подумайте, что я как маленький, просто у меня в детдоме был конструктор, а его потом изломали и по деталькам растащили, и я для себя решил: когда вырасту, соберу всю коллекцию.
У нас в дуэте за мозг отвечаю обычно я, но и Чипа иногда делишки подкидывает. Раз подходит ко мне и говорит:
— Надо тачку разуть.
Ну, думаю, криминалом попахивает. А Чипа успокаивает:
— Никакого криминала. Одна мамзель хочет мужику своему отомстить. Платит за работу, а сами колеса к ней пригнать надо. Дело стопроцентное!
И так у Чипы глаза блестят, что не сразу понятно: то ли дело действительно стопроцентное, то ли он на мамзель позарился?
Согласился я на свою голову.
Во-первых, с нами увязался Ржавый. А вы сами понимаете, что нормального человека Ржавым не назовут. От этого Ржавого одни проблемы. Во-вторых, «разуть» мы тачку никакую не успели. Те тачки, которые «разувать» приятно, они по дворам и гаражам не ночуют, они за высокими заборами у коттеджей находятся.
Мы через забор перемахнули, к цели подобрались, а тут сигналка и мордовороты. Ржавый сразу побежал, только споткнулся и упал. От маслины в ногу. Лежит и орёт. Да ещё громко так, будто нам сигналки и мордоворотов мало. Чипа в кусты юркнул, а я подо дно машины спрятался. Лежу, весь в слух превратился. Сигналка замолчала, только громилы по двору перед коттеджем ходят и блякают. Да Ржавый подвывает. Слышу — кусты затрещали, и Чипин голос надсадный: «Пустите, пидорасы, я ничего не сделал». Ну, думаю, зря ты их пидорасами-то назвал. Бить всяко будут, а за пидорасов вдвойне больно навешают. И пока думал, меня за ноги кто-то ухватил и давай тащить из-под машины. Приплыли, короче.
Били нас знатно. Ржавый даже обоссался. Чипе тоже несладко пришлось. Мы, детдомовские, знаем: если тебя свалили и бьют, надо сжаться как пружина, подобрать под себя ноги, втянуть голову в плечи, прикрыть бок рукой и быстро-быстро крутиться. Так меньше органов отобьют. Только Чипу не били. На нём прыгали. Один из экзекуторов дважды упал через кореша моего: до того Чипа вертлявый. Меня тоже били хорошо, но поменьше. Пожалели, может? Я всё-таки худой и бледный.
Потащили нас в подвал при коттедже. Свалили в угол, как кули с ветошью. А я себя ветошью не люблю ощущать. Мне, чтоб человеческое в себе сохранить, мыслить надо. Стал помещение рассматривать: потолок высоко, стены толстые, темно, хоть глаз коли. Глаз, кстати, один таки заплыл. А с заплывшим глазом сложно побег планировать. Тут впереди полоска света промелькнула как змейка. Потом расширилась. В дверном проёме застыла груда, шагнула в подвал и расплылась. Потом голос я услышал. Владельцем голоса оказался сам Талгат Нариманыч — хозяин единственного в городе завода, где добрая половина населения трудоустроена. А вы чтоб понимали, человек он уважаемый. Он для нашей местности первый после Президента, второй после Бога. С Талгат Нариманычем даже мэр, перед тем как поздороваться, потную ладошку о пиджак отирает. И вот стоит он перед нами, возвышается, монументальный как Ленин на площади, и проникновенно так, хозяйским баском спрашивает:
— Вы кто?
Ржавый от почтения даже скулить перестал. И обоссался снова.
Мы молчим, потому что кто мы — не знаем. То есть знаем, конечно, но таким знанием о себе не принято делиться, когда у тебя целый Нариманыч спрашивает кто ты. Ещё и в голову всякие глупости лезут из сериалов про бандитов.
— Отвечайте, суки! — уже другой голос, резкий. И слышно, что человек с биографией. — Кто навёл? Отвечайте, бляди!
И как давай именами и фамилиями сыпать, будто газетная передовица какая. А мы молчим, потому что имена и фамилии знакомые — это все уважаемые в городе и области люди.
— Мы сейчас вас пытать будем, — третий голос. Тоже с биографией. — Долго. Всё расскажите. А мы всё равно пытать будем.
И так обыденно говорит, будто время спрашивает. Тут уже я чуть не обоссался, до того натуральная угроза вышла.
— Успокойся, Сереж. Не надо никого пытать, — Нариманыч рукой повел. Ну, думаю, отец родной, конечно не надо. Не девяностые же. А Нариманыч помолчал и добавил: — Вы их на карьер песчаный отвезите. Если по дороге не расскажут, там уж делайте, что хотите.
Повезли нас сразу на двух машинах. Талгат Нариманыча интерес пробрал, и он уселся в машину, которую мы «разуть» хотели, а нас запихали в другую. Когда сажали, один из громил снова припомнил Чипе пидорасов. Запсочиили Чипу в багажник. Но багажник большой оказался и уютный. Это я такой вывод делаю, потому что кореш мой всю дорогу молча там просидел: не шумел, ногами не пинался. Зато Ржавый всю дорогу ёрзал. Даже к бандитам обратился. Давайте, мол, остановимся. До ветру, мол, надо — сил нет терпеть. Ему за настойчивость даже отвесили. Замолчал, конечно.
Едем. Светает. Дорога к карьеру через лесок пролегает. Смотрю в окошко, и так хочется выйти и каждое дерево обнять. Прямо как родственника, которого в последний раз видишь. И воздухом предрассветным надышаться тоже хочется. Вообще много чего хочется. Грешным делом подумал, что даже на завод устроиться хочется. Спал бы сейчас, отвернувшись от жены, добирал последние минуты перед подъемом. Потом жженый кофе, яичница на ходу. Маршрутка, проходная, мужики. Цех огромный, и пахнет в нем маслом. Или не маслом? Нет, не маслом. Чем-то неприятным. Говном.
— Ты что, обосрался, паскуда?
Я головой завертел, принюхался. Правда сказать, будто насрали в салоне. Даже поёрзал на сидении, чтобы убедиться, не я ли.
— Серый, это гондон обосрался! Сука, ты же мне весь салон заляпаешь! Вот ведь падла…
А Ржавый сидит, виновато головой упав на грудь, и всхлипывает. Эх, думаю, Ржавый-Ржавый…
— Ну, гнида, я тебя сейчас, я тебя, — громила с переднего сиденья потянулся, ухватил Ржавого за горло и давай кулачищем лупцевать. И чем больше бьет, тем больше вонь по салону распространяется. – Ух, сука…
— Да вышвырни ты его на хер!
Громила к ручке потянулся. Нащупал не сразу. Потом открыл и мощным рывком запустил Ржавого из машины, как шар в боулинге. Вонять не перестало. Потому что Ржавый после себя на сиденье пятно оставил. Ну, думаю, падаль. Мало того, что меня сейчас убивать будут, так еще и говном твоим дыши. Я даже Чипе позавидовал: ему в багажнике вони не слышно, наверное.
Благо мы почти к карьеру выехали. Ржавого в полёт запустили аккурат в тот момент, когда лесок закончился, и машина пошла по песку.
Едущий впереди Нариманыч будто и не заметил ничего. Не притормозил даже. Только когда проехали ещё немного и остановились, вылез из машины и поинтересовался, увидев озадаченные лица бандитов:
— Серёж, Вить, все в порядке?
Серёжа с Витей психологию начали. Салон, мол, им обосрали. Воняет, мол, шибко. А серуна они выкинули. Он на такой скорости всё равно весь размотался самостоятельно.
Нариманыч губы пожевал, попузырил глазами и махнул рукой:
— Вы не Серёжа и Витя, вы — Лёлек и Болек. Ладно. Доставай второго из багажника. Пусть вместе машину в порядок приводят.
Тут снова психология началась. Только на этот раз с моей стороны. Вот если сейчас мне автомат к голове приставят и заставят себе могилу копать — я копать буду. Это не так и стыдно. Даже шик в этом какой-то киношный есть. Но убирать за Ржавым… Нет. Я в случае чего и драться полезу, а убирать не стану. И вы не смотрите, что я худой и бледный. Худые всегда до конца дерутся.
Чипа тоже в отказ пошёл. Говорит, хоть режьте меня, а убирать не стану. Нас за такую дерзость даже приложили пару раз ногами, но ситуация всё равно патовая выходит. Серёжа так разнервничался, что даже пистолет достал. Тычет дулом то в меня, то в Чипу и визжит:
— Вытирайте, суки! Я вас сейчас на месте порешу. Да я тобой, гнида, вытру.
Стоим на своём, как греки в битве при Фермопилах, и отступать не собираемся.
Талгат Нариманыч натурально злиться начал. Покраснел, даже голова явственно загудела. Да так громко, что того и гляди лопнет. Буравится взглядом и молчит. И гудит. Всё сильнее и сильнее. Тут я понимаю, что голова так гудеть не может, даже такая большая и с лысиной как у Нариманыча. И бандиты понимают — по глазам видно. И Нариманыч сам понимает. Чипа только не понимает, потому что врылся от злости и решимости в песок по щиколотки, руки развёл и стоит готовый ко всему.
А гул всё нарастает. Уже и не гул вовсе, а рык. Мы головами завертели. Тут смотрим — прямо по бархану громадина плывет размером с завод. И всё скорость набирает. Будь сейчас полдень, нас бы одной тенью накрыло от карьера и до леска. А колёса так вообще размером с баню в детдоме.
Засуетились мы знатно, забегали. Даже Чипа щиколотки из песка вырыл. Серёжа пистолет на громадину перевел, грохнул выстрел. Еще один.
— Придурок! – орет Нариманыч, — это Белаз. Срать он хотел на твою пукалку!
Белаз прёт, не обращая внимания на выстрелы. Да так громко, что и выстрелов то почти не слышно. Так, хлопает что-то. И не поймешь, пистолет или Серёжа от страха припустил. Мог и припустить, потому что самосвал уже подобрался практически.
Кинулись мы в стороны, как тараканы. Белаз ещё газу подбавил и прямиком на машины скаканул. Вы не спрашивайте, как такая махина скакнуть могла. Там такой стресс начался, что всё что угодно увидишь.
Захрустело под колесом. Машина Талгат Нариманыча ближе к самосвалу оказалась, по ней основной удар и пришелся. Вторую, на которой нас с Чипой привезли, краешком задело, по капоту. У Нариманыча машина хорошая, видно, что дорогая. Даже, может, стекла бронированные, только Белазу эта оказия по боку. Накатился, сдавил, расплющил. Даже шины лопнули. И брызнули. Я аж замер, когда увидел, чем брызнули. Деньгами брызнули. И не нашими, а санкционными. Долларами, значит.
Ну, думаю, такое только в кино видел. Только в кино между покрышкой и диском мешки с белым порошком провозят, а тут деньги. Много денег.
Понял я всё. Баба, нас заказавшая, это Нариманыча жена. Про него говорят, что любитель налево сходить. Вот жена и решила отомстить. Ей, если подумать, такая значимая личность как владелец завода, после развода ничего бы не оставил. А может и оставил, но недостаточно. Тут же денег столько — банкноты метра на два стрельнули — что хватит на безбедную жизнь. Только я вот не пойму, как она с Чипой спуталась?
Я пока думал, замерев как памятник, самосвал машину до конца смял. До состояния блина. Смял и остановился.
Огляделся я. Чипа в одну сторону удирает, Нариманыч — в другую. Серёжу с Витей не видно. Один на один я с самосвалом остался. И деньги ещё, по песку разбросанные. Чего ты, думаю, не званый мой спаситель, стоишь? Покажись хоть.
Тут фигурка из окна Белаза высовыается по пояс. Смотрю — Ржавый. Рукой машет, улыбается, будто в лотерею выиграл. Вылез он полностью, на крышу перебрался, да как заорет на весь карьер:
— Ну и кто теперь обосрался?
Эх, думаю, Ржавый-Ржавый, какой же ты всё-таки молодец. Хоть и воняешь.