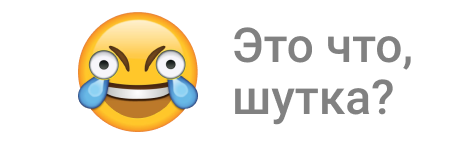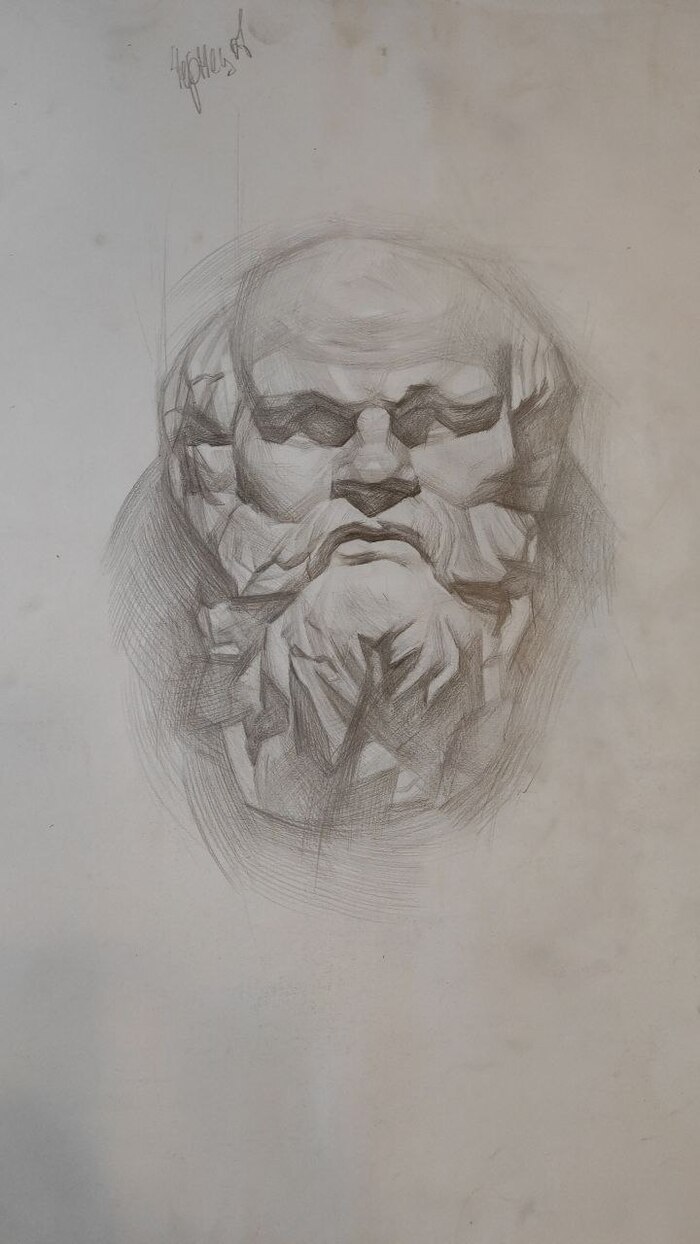Вечная глупость и вечная тайна. Глава сорок седьмая. (Часть вторая)
А потом все уехали, а отец побежал пить к соседке и ещё пару раз попытался вторгнуться в нашу комнату, но Павел начал снимать его телефонной камерой, и он прекратил нападки. Мы подперли дверь в нашу комнату доской и вооружились столярными инструментами, если он решит исполнить свои угрозы зарезать нас во сне. Дверь в комнату была символической, сломать её можно было легким движением ноги даже очень пьяного человека, но пока он бы это делал мы бы по крайней мере проснулись.
День мы просидели в комнате, как в осажденной крепости, думая, куда бы обратиться, чтобы прекратить этот бардак. Вечером неожиданно пришли двое муниципальных полицейских уже не такие молодые, как прежние. Отец тогда был у соседки и услышав наш разговор на лестничной клетке сам выскочил из квартиры и начал орать на полицейских матом и требовать, чтобы они убирались. Полицейский, оправившись от шока, попросил обращаться к нему на вы и не употреблять нецензурных слов. Тогда отец накинулся на его напарницу, даже начал размахивать руками у неё перед носом. Она сказала, что тоже может начать размахивать руками у него перед лицом и ему это не понравится. Тут ещё попыталась вмешаться соседка, но полицейский сказал, что она пьяна, и он может составить протокол и забрать её, если она не закроет дверь с обратной стороны. Тогда отец начал орать матом на нас и угрожать расправой за то, что мы опять вызвали полицию.
После этого возмущенные стражи порядка предложили моему папеньке проехаться с ними и предупредили, что ему этот вояж скорее всего не понравится. А он вопил, что его не запугать, что ради Путина он готов хоть десять лет сидеть в тюрьме. Ему велели одеваться, но он вместо этого только шипел ругательства в наш адрес, щуря глаза, наклоняясь вперед. Ему предлагали хотя бы куртку накинуть и обувь одеть, но в итоге он поехал в тапочках и драной кофте.
Каким же облегчением было видеть из окна, когда его загрузили в клетку и увезли! Мы заперли дверь так, чтобы снаружи её нельзя было открыть, позвонили маме, рассказали, что нас на время избавили от мучений полицейские, на которых не было видео регистраторов и потому более строгих. Однако радость наша была недолгой. Через пару часов мы услышали на лестнице его крики о том, что гомосексуалисты и педофилы не дают русскому человеку зайти в собственную квартиру. Когда я открыл дверь, он снова начал угрожать расправой за предательство и только когда Павел начал его снимать, он затих и всю ночь бегал к соседке и обратно.
Утром он позвонил от соседки маме и начал угрожать уже ей за то, что она вырастила предателей, педофилов и шизофреников, которых он на всю жизнь упечет в психушку. Мама слушать это, конечно, не стала и вообще перестала выходить с ним на связь. Он ей успел пожаловаться, что полицейские его избили, не доставили обратно домой и он шел по холоду домой в одних тапочках и кофточке. Днем мы пошли в государственную полицию, но там нам сказали, что пока он нам не нанес телесных повреждений, не испортил имущества, они ничего не могут для нас сделать, даже заявление принимать не захотели, мотивировав это нежеланием разводить лишнюю бумажную волокиту.
Тем не менее Павел все-таки подал заявление в интернете и через пару дней пришел офицер государственной полиции. Выслушав наш рассказ о том, что произошло, он сказал, что нам надо было соврать врачам о желании отца сделать суицид, тогда бы были основания отправить его в первое отделение психиатрической больницы на неделю - другую. А иначе он ничего для нас не может сделать, заявление, он, конечно, примет, но через неделю придет отказ в возбуждении уголовного дела и все.
И тут он зашел в комнату к отцу, который к тому времени уже немного притих и был не такой пьяный, как ранее. Он спокойно начал рассказывать полицейскому о том, что меня надо посадить в тюрьму за педофилию, что он видел, как я насиловал своего сына, когда он был ребенком. Полицейский спросил, почему он не обратился в полицию, если такое видел. Отец с гордостью сказал, что русские люди своих не сдают и вообще он гражданин великой страны и с ним всякие чухонцы должны общаться только через консула.
Тогда полицейский попросил у него связаться с хозяйкой квартиры и отцу пришлось включить видеосвязь с мамой, которая рассказала, что её бывший муж уже очень давно живет за её счет в её квартире, дебоширит и пьет и она больше не желает, чтобы это продолжалось. Полицейский сказал, что в данном случае нужно просто подать иск в суд и отца обязательно выселят из квартиры. Отец завыл о том, какой он бедный, как его все предали и хотят от него избавится, но он не готов сдаться или чем-то поступиться. Полицейский ушел, пожелав нам удачи в судебной тяжбе. А мы с Павликом поехали к юристу на консультацию, за которую Павел был намерен заплатить деньгами, которые заработал на практике.
Выслушав нас, юрист только удивился, зачем мы так долго все это терпели и сказал, что никаких причин для того, чтобы проиграть дело нет. Нужно только составить иск в суд, что он за двести евро может сделать. Консультация стоила тридцать евро и еще семьдесят надо было заплатить государственную пошлину. Он ещё сказал, что можно его выселить и до суда, но это обойдется дороже. И две недели он составлял иск, который мы отправили маме по почте для подписи и подали в суд через две недели. А ещё через две недели из суда пришло письмо на электронную почту о том, что в иске указаны не все данные и он нуждается в исправлении. Опять пришлось идти к юристу и потом ждать, пока он его исправит. А потом мы решили подождать две недели, пока мама приедет в Ригу для прохождения медицинских обследований. И только в начале мая наш иск был принят.
До того, как иск приняли, беспробудное пьянство отца подошло к концу, соседке стало слишком плохо и её забрали в больницу. Объявились всякие родственники, а её племянница, хозяйка квартиры, проживавшая в Англии, решила забрать тётю к себе прямо из больницы. Она даже купила ей билет, но та просто не поехала. И в итоге племянница прилетела в Ригу, чтобы её забрать. Не знаю, каким образом, но отец как-то втерся в доверие и к родственникам соседки, и к её племяннице, и даже получал от них какую-то денежную помощь. Свою пенсию за три месяца он пропил и потому нагло воровал наши с Павликом продукты.
Несколько лет назад, компания мобильной связи предложила мне большую скидку, если я подключу второй номер. Фактически я платил за два номера с неограниченными временем разговоров. Второй номер я отдал отцу, речь шла о шести евро в месяц за два номера. Но потом абонентная плата выросла до восьми евро за каждый номер, а по телефону я практически не говорил, как и отец, потому я переключил оба номера на минимальный тариф - два евро в месяц за каждый номер абонентной платы и двадцать центов за минуту разговора. Отец, конечно, эти два евро мне не платил, как и ни цента не давал за проживание в квартире. А во время того запоя он умудрился наговорить с кем-то аж на тридцать пять евро, хотя и знал, сколько мне стоит каждая минута его разговора. Счет мне, конечно, пришлось оплатить, но телефон я ему отключил. Удаленно это сделать было нельзя, пришлось записываться на прием в офис, ехать туда, подписывать бумаги.
Юрист сразу предупредил нас о том, что суда надо будет ждать около четырех месяцев и нам ничего не оставалось кроме совместной жизни с отцом, который написал судье совершенно неадекватную объяснительную, которую перевел на латышский с помощью электронного переводчика. Там он утверждал, что никакого конфликта у него с нами не было, просто ему хватило двух ударов, чтобы меня и Павлика успокоить, а взбесились мы, потому что психически больны и переболели вирусом. Он указал, что мы весим по девяносто килограмм и ростом по метр восемьдесят, а он восемьдесят пять кило и ростом метр шестьдесят. Писал он так же, что мы ему в квартире совсем не нужны, что мама незаконно проживает в Ирландии и много ещё всякой несуразицы, которую можно было написать только в совершенно невменяемом состоянии.
Мама, когда приехала в Ригу, остановилась у своей подруги, и за две недели только пару раз зашла в квартиру, забрать свои документы. С отцом она разговаривать не хотела, и вообще она чувствовала себя намного лучше, как перестала с ним общаться. Я сопровождал её в походах по разным медицинским центрам. Она была очень расстроена тем, что все её подруги сказали ей, что нельзя выкидывать бывшего мужа из квартиры, что то, что он пьет не страшно, ведь у каждого свои слабости и их надо уважать. А то, что он не заработал себе нормальную пенсию, так это наши проблемы, а не его, и мы его должны содержать, пока он не умрет, раз содержали ранее и не приучили работать. Цитировали Антуана де Сент Экзюпери, который говорил о том, что мы в ответе за тех, кого приручили.
Я пытался найти что-то хорошее в своих отношениях с отцом и ничего не мог вспомнить. Он всегда язвил по поводу моих недостатков и хвастался тем, что он умеет в отличии от меня. Пока мы жили вместе с родителями мамы, мной занимался в основном дед, а отец вечно отсутствовал, а после того, как мы разъехались, отец стал приходить домой поздно вечером, а на выходных то ехал на рыбалку, то шел в баню на целый день, то в гости. Когда он был дома мне было неприятно, потому что он лежал на диване и рычал, чтобы его никто не тревожил, чтобы ему вовремя подали обед на подносе, который он заказал. Да и меня на выходные и каникулы часто отправляли к деду, чтобы я не шлялся по городу без присмотра, да и еды не всегда хватало. Бабушка, а иногда и дед постоянно упрекали меня в том, что у меня такой бестолковый отец, будто я его выбрал. Потом, когда я работал у его знакомого, многие говорили мне, что мой отец им должен и намекали на то, что не мешало бы мне отдать им его долги. А другие только спрашивали, почему мой отец не хочет нормально работать, и я не знал, что ответить.
Когда я заканчивал основное образование в пятнадцать лет и мне надо было определиться с тем, кем быть, я захотел получить от него какой-то совет. И когда он вдруг решил дать мне попрактиковаться в вождении своей машины, я спросил его куда мне дальше идти. Это был девяносто пятый год, в доме было практически нечего есть, я ходил в чужих обносках не по размеру, а он хвастался, что купил чехлы из овчины для кресел в своей "копейке". Он все же смутился, когда я перебил его, повторив свой вопрос, взял бесплатную рекламную газету и ткнул пальцем в объявление о наборе на курсы дизайна, которые стоили сорок лат за месяц, в то время мама зарабатывала сорок лат в месяц, сидя в прокате видеокассет целыми днями. Я спросил, откуда мне взять деньги на обучение, когда у нас огромный долг за квартиру и мы живем на грани выселения. А он, как всегда, сказал, что я Козлевич и ничего не понимаю, не умею, не могу, что я маменькин сынок, что ему никто не помогал. Я в принципе от него ничего не требовал и не ждал. Мне было видно, что он сам жить не умеет, потому глупо с ним советоваться.
К тому времени, когда я читал объяснительную своего отца для суда, у меня уже не было никаких чувств в его отношении. Прошла злость, прошла жалость, презрение, ненависть, гнев. Я просто понимал, что он, больной человек, как и моя бывшая жена и лечиться они не желают, потому что они уже отождествили самих себя со своей болезнью. Я не хотел его наказывать, не хотел лечить, хотел только, чтобы он исчез из моей жизни и мне было совершенно безразлично, что с ним будет после того, как нам удастся его выселить.
Павел закончил техникум с девятками в аттестате по специальным предметам и по литературе он все-таки получил пятерку, благодаря нескольким сочинениям, которые я и моя мама напечатали вместо него, исправив те отрицательные оценки, что он хватал на уроках. Правда, вслед за радостью окончания учебы пришло и разочарование. Работы по специальности было не так уж и много, а Павел ещё и не хотел ездить на работу через весь город и работать меньше чем за тысячу евро в месяц на руки. Тут ему ещё фонд перестал перечислять алименты и стипендии тоже больше не было, и его накоплений оказалось не так уж и много. Я показывал ему счета, которые надо каждый месяц оплачивать и объяснил, что без бабушкиных перечислений, мы бы не выжили. И тут мой любимый сын меня сильно огорчил, заявив, что хочет на лето поехать с друзьями в Англию. Он утверждал, что он там заработает очень много денег и пришлет их мне, чтобы я заплатил за квартиру. Я только напоминал ему, как он уставал от той работы ранее и как мало заработал. Он был уже взрослый и свободный человек, и я не мог ему что-то запретить.
Все-таки Павлику удалось найти работу недалеко от дома, платили там прилично, но работа была неофициальной. Я объяснял сыну, что работать неофициально - это очень плохо не только для родины, но и для себя, ведь ни больничного, ни отпуска работодатель предоставлять ему не обязан, никаких пособий по безработице и отчислений в пенсионный фонд не будет и главное то, что работодатель может просто ничего не заплатить и даже, если его и прихватит налоговая полиция, то его одураченным работникам все равно ничего не достанется. К тому же эту фирму могут в любой момент закрыть, что через месяц и случилось, правда, деньги Павел все получил.
Потеряв работу, Павел даже обрадовался и тут же собрался в Англию. Мне хотелось по этому поводу устроить истерику, но я вспомнил себя в его годы и понял, что это бесполезно. Ему уже двадцать лет, он взрослый человек и уже поздно ему что-то объяснять, он уже живет своей головой и не хочет слушать никаких советов. Билеты в тот раз он покупал уже себе сам, да ещё и по высоким ценам, потому что хотел лететь немедленно. Мне осталось только проводить его и пожелать ему удачи с выражением скорби на лице. Моя мама была недовольна ни сколько внуком, сколько мной, из-за того, что я не имею на него влияния, сетовала на то, что ей ещё неизвестно сколько предстоит нас финансово поддерживать. А мне было очень стыдно из-за своей неспособности пойти работать.
Весной двадцать второго года размер моей пенсии достиг трехсот двадцати евро, но цены тоже порядком поднялись и эти индексации я не почувствовал. Я попытался устроиться в супермаркет норвежской торговой сети, там было не так страшно, как в литовской сети, где я работал. Я приехал на собеседование, поговорил об условиях труда и мне стало плохо. Работать надо было три дня по двенадцать часов, потом три дня выходных, зарплата была фактически минимальная, обещали, конечно, её со временем повысить, но верить таким обещаниям я расположен не был. После этой неудачи я впал в сильную депрессию, думал о том, как было бы хорошо, если бы моя жизнь поскорее закончилась.
Уже через месяц Павел вернулся из Англии, ничего не заработав, причем потратив остатки своих сбережений. Он сказал, что не может много ходить, потому то у него плоскостопие, хотя я и знал, что это не так. Меня расстроило даже не то, что у него совершенно ничего не получилось, а то, что он при всем при этом отказывался признать свою ошибку. На работу он устроился достаточно быстро к ведущему провайдеру, ему надо было консультировать клиентов по телефону. Работа была официальной, хотя и зарплата не очень высокой, около восьмисот евро на руки за месяц и добираться на работу надо было около часа. Павел чувствовал себя очень несчастным из-за того, что слишком мало времени у него остается на его любимые игры и болтовню с друзьями. Но к моему великому удовольствию к началу отопительного сезона счета за квартиру мы уже платили пополам и маме уже не надо было нас поддерживать материально.
В то время я начал довольно часто ходить на кафедру психиатрии, чтобы рассказать студентам, будущим психиатрам о своей жизни и болезни. Врач психиатр, лечившая меня преподавала в университете, и я был рад ей помочь. Рассказывая о себе, я смотрел на свою жизнь каждый раз с новой точки зрения, вспоминал новые подробности и это к осени сподвигло меня на то, чтобы продолжить работу над этим произведением. Работа двигалась медленно, печатал я всего пару часов в день по утрам, но потом весь последующий день меня одолевали невеселые мысли. Мне стало очевидно, насколько же я болен и неадекватен, насколько больны и неадекватны люди, которые меня окружали. И главным выводом из всего этого было то, что ничего приятного для меня в моей жизни случиться не может.
За пару недель до суда, который назначили в конце ноября мне позвонил некий человек, представился юристом моего отца и начал пафосно убеждать меня в том, чтобы я забрал иск из суда, потому что отца, каким бы он ни был, на улицу выселять нельзя. В том случае, если я этого не сделаю, он обещал принудить меня платить огромные алименты. Сказал, что мой отец будет брать в кредит огромные суммы и отдавать их придется мне, сестре и моему сыну и на нас будут такие долги, что мы не сможем их отдать никогда, и соответственно не сможем иметь никакой собственности. Я спокойно выслушал этот бред и отказался забирать иск. Было ясно, что человек этот не то, что юристом не был, что он был просто не образован и даже не знал о том, что счет моего отца был арестован и если на нем появлялась сумма превышающая минимальную зарплату, её тут же конфисковывали в счет оплаты его долга страховой компании и оплаты работы судебных исполнителей. И конечно, никто ему никаких кредитов не даст, да и детей не могут принудить оплачивать долги родителей. Меня одно время пытались предупредить, что я не смогу получить отцовское наследство, если он не оплатит свой долг, но наследовать же мне нечего.
В то утро, когда был назначен суд, мы встали пораньше, собрались и поехали туда, а отец остался дома и когда мы выходили только начал готовить себе завтрак. Суд начался по протоколу, и только после соблюдения всех формальностей судья объявила, что заседание суда откладывается на два месяца по причине болезни ответчика, которому необходим постельный режим. Для нас это было неожиданностью, я попытался заявить, что ответчик совершенно здоров, как обычно бегает в магазин и употребляет алкоголь, но мне сказали, что я имею право обратиться в полицию по поводу подделки больничного или некомпетентности врача, который его открыл. Обнадежило только то, что в следующий раз, даже если ответчик не явится, суд пройдет без него.
И снова я потянулись мрачные дни, в которые я дремал после завтрака в шесть утра, часов до девяти, потом печатал до обеда в полдень, болтал с мамой за обедом, шел на прогулку до ужина в шесть и смотрел фильмы до десяти, когда мы с Павликом ложились спать, подперев дверь в свою комнату на всякий случай. За отопление начали приходить зверские счета и для меня стало неприемлемо оплачивать даже половину счетов за квартиру, хотя государство на время отопительного сезона и начало приплачивать мне двадцать евро в месяц и платило компаниям компенсации напрямую. Но Павел без лишних слов начал оплачивать большую часть счетов.
Я смотрел на то, как живет Павел и мне казалось, что один он вряд ли жить сможет, да и не хочет. За ним нужно приглядывать, убирать, смотреть, чтобы он вовремя встал на работу и в то же время он раздражается, если я отвлекаю его от его игр без уважительной причины. Как-то он мне сказал, что друзья для него очень много значат, а я сказал, что с детства скорее покупал себе друзей разными благами, вроде возможности поиграть на компьютере и выбирал достаточно мерзких личностей, ради того, чтобы было над кем посмеяться. Я никогда не стремился к общению с успешными людьми, даже более того, общение с ними было неприятно для меня. В тот момент я сам удивился своему высокомерию. Да и женщины в моей жизни были похожи на очень некачественные товары, которые распродают в торговых сетях с большими скидками. Радость от покупки таких вещей совсем недолгая, распаковав такую покупку, сразу понимаешь, что совершил глупость и думаешь, в какой бы угол её засунуть, чтобы она не попадалась на глаза и не напоминала о зря потраченных деньгах. Сын, конечно, возмутился моим методом выбора друзей и женщин, а я попросил его не совершать таких ошибок.
Мама говорит, что я не хочу ни с кем общаться, кроме неё и сына из-за своего заболевания, но я осознал, что ранее делал это не из-за того, что у меня была в этом потребность, а только потому, что мне с детского сада внушали, что быть одному очень плохо и ради общения следует идти на жертвы. И я подружился с тем пацаном, который требовал от меня ради общения с собой меньше всех жертв. Мой первый друг был вне общества, он был всеми осуждаем, он был антигероем. Но он научил меня не есть гадкий суп за обедом, а выливать его в шахматную доску, а картофельное пюре запихивать в батарею. В детский сад я пошел позже других детей, и столкнувшись с общественной жизнью, я возненавидел воспитателей и большую часть детей и совершенно не хотел добиваться их расположения.
В школе я какое-то время ещё проявлял интерес к обучению и симпатию к некоторым учителям, но вскоре возненавидел не только учителей, но и всю систему образования и учеников. Порывшись в своей памяти, я понял, что дружил с одними одноклассниками в основном против других. Быть одиночкой было плохо потому, что сбившиеся в компашки детки могли наехать на одиночку безнаказанно. Со сверстниками мне было в основном скучно, я не понимал их интереса к играм, которые мне очень быстро надоели, не понимал, как могут нравится разные коллективные игры типа футбола или хоккея. Меня вечно тянуло в путешествия, а им было хорошо во дворе. В подростковом возрасте у меня появилась потребность в самоутверждении, и я начал навязывать свои желания и вкусы другим, но потом это прошло...
Какое-то время я активно печатал твитты, мне эта социальная сеть сразу не понравилась ограничениями по объему постов, но после того, как российские социальные сети заблокировали в Латвии, а Фейсбук стал настолько коммерческим, что если не заплатить ему денег, то никто твои публикации не прочтет, я все больше начал посещать Твиттер. И тут через полгода я заметил, что мне совершенно не нравится то, что я там читаю, хотя и почему-то соглашаюсь с этим. Перечитав то, что я там печатал, я остался очень недоволен собой. Может краткость в некоторых случаях и сестра таланта, но в случае пользователей этой социальной сети краткость стала подругой недомолвок, кривотолков, хамства и грубости. И какое же облегчение я испытал, когда удалил приложение этой социальной сети из телефона!
В фейсбуке появилась функция знакомств для отношений и создания семьи. И я там зарегистрировался в надежде на то, что может найду кого-то, с кем можно хотя бы время от времени погулять, поболтать, нарушить свое одиночество. В заполнении анкеты мне пришлось пропустить пункт о месте работы. Сначала я не хотел писать о том, как я живу, но потом подумал, что откровенность поможет мне избежать лишних недоразумений и написал всё, как есть. И тут началась самая неприятна часть поиска - просмотр фотографий. Минут через пятнадцать мне стало не по себе от фотографий, с которых на меня недобро смотрели всякие тетки, некоторые пытались натянуть улыбку, но это меня только ещё больше настораживало. И стоило посмотреть в анкеты, как становилось видно, что все они магистры и кандидаты наук, а курят и пьют время от времени. И сколько я ни пытался, я не смог себя заставить написать никакого комплимента под фотографией с целью начать общение.
Чтобы немного отдохнуть от просмотра профилей злых теток в радиусе четырехсот пятидесяти км от моего дома, я залезал в Инстаграм, где смотрел фото и видео африканских женщин. Глядя на них, я немного расслаблялся и мир мне казался не таким жестоким и враждебным, как глаза теток из Фейсбука. Со временем я совсем перестал лезть в раздел знакомств и только любовался африканками, хотя и понимаю, что только любоваться ими я и могу, а знакомство с кем-то из них мне не светит, во всяком случае в этой жизни. Как-то незаметно пришло смирение с тем, что мне лучше дожить эту жизнь в одиночестве, ведь я при моей болезни вряд ли смогу какую-то женщину сделать счастливой.
Всю жизнь я о чем-то мечтал и иногда мечты сбывались, но в реальной жизни все обстояло совсем не так, как в моем воображении, вечно были какие-то нюансы. И даже тогда я все ещё иногда мечтал о том, чтобы поехать в очередное путешествие по Европе на велосипеде. И с той пенсией это было не так уж и недостижимо. Вопрос был только в том, как оставить на сына квартиру, согласится ли он оплачивать её один, будет ли он ухаживать за белкой, которая слишком избалована и капризна. Мама, конечно, всегда будет против того, чтобы я куда-то ехал, ей спокойнее, когда я сижу дома.
Засыпая, я представлял, как я набрал бы лекарств на год и поехал все-таки на самую северную оконечность Европы в начале лета, а потом плутал среди норвежских фьордов и шведских лесов все лето, а осенью постепенно спустился бы на Юг Европы, где нет зимы и катался бы уже там. Я уже не курил и не пил чай, что позволило бы мне тратить в путешествии намного меньше денег, чем прежде. Возможно, что, проводя много времени в седле, я бы сбросил лишний вес, да и депрессия моя отступила бы. Надо признать, что я никогда себя таким счастливым не чувствовал, как во время своих путешествий на велосипеде и единственное, что меня во время этих странствий беспокоило, так это то, что они должны были скоро закончится, потому мне надо было спешить, проезжать за день побольше...
Наконец состоялось судебное заседание, без присутствия ответчика, то есть моего отца. Он этого совсем не ожидал, полагал, что заседание опять отложат месяца на два из-за того, что он прислал в суд справку о том, что он находится в больнице. Непонятно, конечно, откуда он такую справку взял и сколько за неё заплатил. Судя по его поведению дома, он все ещё никак не осознал, что его ждет дальше, все ещё надеется непонятно на что. А ведь мог же хотя бы попросить прощения и как-то задуматься о том, что делать дальше, где жить и на что вместо того, чтобы слушать вопли Соловьева.
Это судебное заседание, которого мы ждали почти год длилось меньше часа, а если откинуть, то время, когда судья проговаривала излишние формальности, то останется минут пятнадцать вопросов и ответов по существу. Ей было просто не понятно, на каком основании мой отец жил в квартире с того момента, когда я эту квартиру приватизировал. И уж совсем ей было непонятно, почему он остался в квартире и после развода с мамой. Я мог на это ответить только то, что он нигде не работал и не хотел работать и пойти ему было некуда, а мы не выгоняли его из жалости, до тех пор, пока сожительство с ним не стало совсем невыносимым, пока он не начал угрожать нам кухонным ножом.
Тогда меня интересовало, когда мой отец должен будет покинуть квартиру после вынесения судом решения. Выход на самом деле у него был только один - попросить прощения у своего старшего брата, и ехать к нему. Со здоровьем у его брата и у его жены совсем не очень, а у них ещё осталось какое-то хозяйство, да и им самим нужен уход. Непонятно, что его держало в Латвии, которую он так ненавидел с того времени, когда приехал. Когда я ранее задавал ему этот вопрос, он говорил мне, что он имперский колонизатор, но было видно, что он сам в это совершенно не верит. Даже до развала СССР он отказывался ехать в родные места даже в гости на неделю, говорил, что там вечно наводнения и холодные зимы. Но главное, конечно, люди там и порядки не такие уж и мягкие для маленького человека, как в Латвии. Потому он поедет туда только в крайнем случае и скоро этот крайний случай для него настанет.
Порой меня робко атакует жалость к этому, по сути, чужому мне человеку, с которым я прожил вместе так долго. Я пытаюсь представить себя на его месте и у меня это совсем не получается. Да, я могу понять, если человек не любит жену, не любит сына, но я не могу понять, как он мог тогда жить за их счет большую часть своей жизни. Если мне кто-то не нравился, я просто стремился поскорее с этим человеком распрощаться, а не сесть ему на шею и чего-то требовать до конца жизни. Он вполне мог уже давно обратиться к психиатру и разобраться с тем, почему он нигде не мог работать и вылечиться или получить инвалидность, ведь он явно психически нездоровый человек.
Психически больные люди практически никогда не вызывают сочувствия у окружающих, ибо они не признают себя больными и тем труднее это сделать окружающим. Большинство людей на постсоветском пространстве объясняют пьянство, нежелание работать, недоброжелательное отношение к другим некой порочностью человека, а не его болезнью. Этих больных людей просто наказывают за их болезнь. Представьте, ситуацию, когда безногого бьют за то, что он не может бегать! Абсурд? Но ещё более абсурдно ситуация выглядит, если этому калеке предлагают протезы и прочую помощь, а он её отвергает, утверждая, что абсолютно здоров и вполне может жить нормальной жизнью и соответственно терпит наказания за свою болезнь.
Почему-то болезни сердца в нашем обществе считаются приличными и вызывают некое сочувствие, а вот к болезням пищеварительной системы уже не такие приличные, а геморрой - это уже совсем позор и говорить об этой болезни неприлично. Я встречал много людей, которые просто гордились болезнями позвоночника, дескать надорвали спины на непосильной работе. Болезни венерические были неприличными по той причине, что они могли свидетельствовать о беспорядочной половой жизни. А вот психические заболевания ставились больным в вину, будто их вовсе нет, а все это просто распущенность и эти больные могут в любой момент взять себя в руки и стать здоровыми. Или же это не болезнь, а некий злой дух, которого они в себя запустили добровольно и в любой момент могут его изгнать. Зная о таком отношении к психически больным общества, большинство психически больных людей отрицают факт своей болезни, пытаются его скрыть и готовы даже быть наказанными за последствия своих заболеваний.