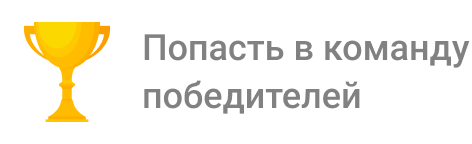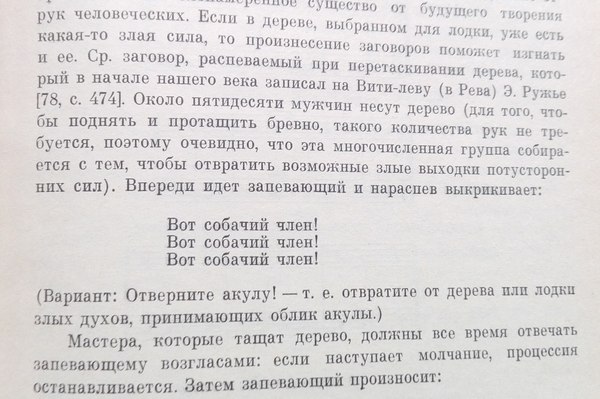Этот рассказ я не закончил – есть ещё несколько частей, я их запощу, но финала как такового нет. Если вдруг читателям будет интересно, что происходило с Денисом дальше, то я попробую продолжить и даже вписать продолжение и весь текст в целом в т.н. "Вселенную Грязнули". Хочу услышать мнение моих подписчиков.
Меня зовут Денис Кружко. Правда, Денис я для родителей и бабушки, для всех остальных я с детского сада был и остался Кружок. Даже для учителей в школе. Кружок то, Кружок се. Кружок пятое, Кружок десятое.
Обижаться я перестал давно, потому что бессмысленно. Подумаешь. Я думаю так: делай то, что не можешь победить, своим союзником, и жить сразу станет чуть проще.
Например, мне не пришлось мучиться, когда в третьем классе нас попросили придумать себе подпись – для карточки в библиотеке. Ну, вы уже поняли, да? Одноклассники мои пропыхтели над листочками весь классный час, кто-то даже забрал задание домой – мой лучший друг Антоша Черкашин, к примеру.
Я думал секунд пять. Рассеянно глянул в окошко, после взял ручку и уверенно, одним движением нарисовал под своей фамилией крупный, чуть приплюснутый круг.
Я человек упрямый, практически несгибаемый, что, конечно, в жизни часто мешает, но пользы, если по секрету, все-таки больше. Подпись свою я отстоял, она даже в паспорте у меня такая же, какой я ее придумал тогда, на классном часу в третьем классе.
А вот Антоша до сих пор подписывается по-разному, из-за чего порой имеет проблемы. Ну, это Антоша, к нему лучше сразу привыкнуть и воспринимать как некое одушевленное явление природы, говорящее стихийное бедствие. Ну вот глупо же обижаться на ураганный ветер или, скажем, вулкан, правда? Глупо и бессмысленно, сжигание нервных клеток впустую. Разумнее всего просто тихонько наблюдать со стороны, как живой вулкан Антоша мечет свою пламенную икру, а еще лучше – направить его взрывоопасную энергию в нужное русло, превратить шальной атом в мирный. Что я и сделал.
Антошу не зря прозвали Чертом. Нет, это не потому, что фамилия такая – Черкашин. То есть, не только потому. Маленький, смуглый, с непропорционально большой головой и вечно торчащими дыбом волосами, которые делают эту бедную, крутолобую голову еще больше. Плюс громадные очки на кнопочном носу, постоянно с него сползающие.
Темные, какие-то, что ли, южные глазищи за толстенными стеклами всегда бегают, суетятся, поэтому, когда Антоша смотрит тебе в лицо, что случается довольно редко, буквально чувствуешь физически, как он этими глазищами трогает тебя за нос, щеки и все остальное.
Антоша умный, начитанный, мгновенно соображающий, но при этом натуральный реактивный черт, не умеющий сидеть на месте в принципе, даже если очень нужно. Не удивительно, что в школе ему доставалось и порой крепко. Антоша переживал, но не долго – ему было некогда погружаться на зыбкое дно рефлексии.
Этим в нашей компании занимался обычно я. Во что никто бы, конечно, не поверил, умудрись я сдуру признаться. Большинство из тех, с кем я так или иначе вынужден контактировать, уверены в том, что думать я вообще не умею. Подавляющее большинство. Как говорила мне Анна Владимировна, мой учитель языка и литературы: «Кружок, ты не думаешь, ты компилируешь цитаты».
Что ж, пусть так. Да, для вас я законченный флегматик, ленивый, неповоротливый толстячок с неприятно тягучим взглядом. Такой у меня панцирь. Даже с Антошкой я начал дружить в первую очередь для того, чтобы использовать его в качестве живого щита – на фоне Черта я был никем, пустым местом, невидимкой. Я всю школу просидел с Черкашиным за одной партой, и меня не трогали, обо мне забывали, соскальзывая взглядом на неизменно копошащегося Антошку.
– Черкашин, ты сейчас в школе или где?
– Где... Ой, то есть, конечно в школе, Анна Владимировна.
Смех в зале. Ну, в классе, вы поняли.
– Если ты все-таки в школе, Антон, то довожу до твоего сведения, что у нас в данный момент урок литературы, а не оригами.
– Да.
– Что «да», Черкашин?
Снова смех в зале.
– Урок литературы, Анна Владимировна.
– Черкашин, спрячь журавлика и смотри, наконец, в учебник!
– Ну, Анна Владимировна, я почти закончил!..
– Немедленно.
– Ну, Анна Владимировна...
– Я что сказала?
Антоша спорил, перечил, пререкался. Воевал. Итогом этих войн практически всегда были летящие в корзину скомканные журавлики и прочие бумажные звери, разорванные на мелкие клочки рисунки, отобранные до конца занятий книжки. Непедагогично.
Но это вы просто Черта не знаете. Не родился еще такой педагог, которому по зубам Антон Черкашин. Черта выдержит только робот, простым человекам из мяса такое не под силу.
Кроме, наверное, меня. Прячась за Антошкиными жестокими битвами с учителями, я совершенно спокойно крутил из бумаги журавликов, рисовал монстров и черепа или читал фантастику. И ни разу не услышал что-нибудь вроде: «Кружок, ты сейчас в школе или где?»
Учился я серенько, не напрягаясь, предпочитая списывать у того же Антона, а если нас разбивали по вариантам, то просил у Черта решить за меня тоже. Он не отказывался, ему было интересно.
Антошка такой – ему все интересно, только интерес этот очень короткий, угасает почти сразу, чуть ли не в самом начале. Но на парочку лишних уравнений его обычно хватало.
Я переписывал решения, намеренно добавляя пару-тройку ошибок – статус отличника мне был ни к чему.
Я избегал любой ответственности и всегда следовал одному из главных своих принципов: если тебя попросили что-нибудь сделать, сделай это максимально плохо, чтобы не просили уже никогда.
В школе я этот жесткий принцип чуть разжимал – двойки лишали меня доступа к отцовской библиотеке. Поэтому учился я на тройки, иногда на четверки, но не специально – просто, видимо, где-то ошибался в плюс.
К доске меня вызывать не любили, поскольку бубнил я монотонно и скучно, на одной гипнотической ноте. «Хватит, Кружок, достаточно. Садись, три». А я и рад.
Антоша свои ответы у доски превращал в ненарочный цирк – с падающими на пол в самый неподходящий момент очками, например. Антон, продолжая отвечать, медленно приседал и подслеповато шарил руками вокруг себя, умудряясь чудесным образом мазать мимо лежащих совсем рядом очков. Решив, что очки отлетели в сторону, Антоша чуть ли не полз за ними по полу, даже и не думая умолкать.
Я думаю, вы догадались, как на это реагировали остальные. Смеялся даже учитель. Непедагогично.
Люда Петрова, в которой рано проснулись материнские чувства, бросалась из-за парты к еще не раздавленным очкам, поднимала их и совала неуклюже Антону в руки, а после смотрела на меня нарочито презрительно: мол, тоже мне, друг называется.
А я считал, что достаточно того, что я не смеюсь. Но не посвящать же какую-то там Петрову в свои принципы, правильно?
Если Антоша писал что-то на доске, то неизменно вымазывался мелом и почему-то всегда это замечал. Заметив, принимался активно отряхиваться испачканными белым руками, в итоге оказываясь в мелу чуть ли не с ног до головы. Даже в волосах был мел.
Смех в зале. Гомерический, я бы сказал, хохот.
Антоша смеха этого не замечал. Шутом он не был, своим уникальным даром без усилий, просто существуя, смешить других не пользовался никак.
Антошка был и остался этаким искренним, практически напрочь бесхитростным Паганелем, даром что сейчас он кандидат физико-математических наук. По-своему я его люблю, и он это понимает, не требуя большего.
Может показаться, что наша дружба была односторонней, что я был не более чем хитрым юзером, но это не так. Книжками из отцовской библиотеки я – на свой страх и риск – делился с Антоном всегда, прекрасно понимая, что могу серьезно получить по ушам, если одна из книг окажется испорченной. Пару раз таки получил, как раз из-за Антошки.
Отец над своими книгами чах, как рыцарь над златом, жадничал, никогда не давал почитать новую, пока сам не прочитает, а читал он медленно, смакуя, и приходилось либо ждать месяцами, либо читать тайком, рискуя выронить отцовскую закладку, всунуть ее не туда и нарваться из-за этого на неприятности.
Отец никогда не бил меня в прямом смысле. Получить по ушам – лишь устойчивое выражение. Руку на меня он не поднял ни разу. Он лишал. Книг, велосипеда, мультфильмов, редких на то время гигантских солдатиков (ну помните, были такие – из коричневой пластмассы, первобытные люди, индейцы, необычайно реалистично исполненные по сравнению с крохотными оловянными красноармейцами и матросами).
У Антона отца не было.
Я думаю, Черт мне немного завидовал, сам того не очень-то осознавая, и часто приходил к нам в гости – якобы ко мне, но на самом деле ему просто хотелось хотя бы пару часов поиграть в полную семью – как будто бы я его брат, а мой отец – наш общий.
Неа, я не переживал по этому поводу – что мне, жалко, что ли? Мой отец для меня все равно был только номинальным, и я завидовал тоже – другим детям, которых отцы брали с собой на рыбалку, в поход или хотя бы в кино.
Я был толстым, не очень приятным мальчиком с тяжелым взглядом. Прозвище мое мне подходило. Кружок. А по сути – нолик. А крестиком был Антон. Плюсом, чаще всего чрезмерным.
Он все ломал. Не нарочно, просто в силу своей чрезмерности. Я к вещам относился бережно, но не трясся над ними, как мой отец, который не ездил на новенькой Волге только потому, что боялся ее испортить.
Антоша не боялся портить, он просто портил, говорил «ой», пытался чинить, чем портил еще больше, и мог вообще уничтожить вещь, если ее вовремя у него не вырвать из рук. Стихийное бедствие, что с него взять. Но рассказчик отменный.
Нет, не врун, пусть даже во всех его умопомрачительных историях главным героем был именно он. Антошка не врал – он фантазировал. За эти его фантазии я прощал ему все мои безнадежно испорченные модели самолетов и кораблей, над которыми я корпел по многу часов, чувствуя себя хирургом, восстанавливающим при помощи одного только клея чью-то нарушенную целостность.
Антон постоянно попадал в жуткие передряги: его похищали «лучевые» инопланетяне с Сириуса, его вербовала в свои ряды Тайная Подземная Армия, ему открывали свои секреты не известные никому станции метро (и совсем не важно, что в нашем городе никакого метро не было). Сколько раз в него стреляли бандиты из Черного Мира! – не перечесть.
Я верил, но и не верил. Не верил, но в тайне даже от себя надеялся и верил. Я завидовал, потому что со мной ничего подобного не случалось – пусть хотя бы в воображении, а не на самом деле.
Много месяцев я, пытаясь подражась Антону, мусолил в уме унылую историю о захвате нашей планеты марсианами, но придумал только самое начало и, в конце концов, бросил, не решившись даже заикнуться о том, что со мной вот тоже что-то было пару недель назад. Увы, не было – даже понарошку.
Я слушал истории Черта и успокаивал себя тем, что вот рисую я все равно лучше. Особенно монстров. И думал о том, что Антоша, когда вырастет, станет писателем. Обязательно. А я буду к его книгам рисовать иллюстрации.
Я представлял себе яркие обложки и скромное «иллюстрации Дениса Кружко» под размашистым «АНТОН ЧЕРКАШИН». Скромное, но красивым шрифтом, желательно готическим. И на каждой обложке – мой фирменный монстр. Обязательно. Ну или робот, роботы тоже крутые.
Посвящать в подобного рода мечты Антона я не считал нужным. Не надо, вдруг зазнается раньше времени. Хоть зазнаваться – это не про Антошку, но мало ли. На всякий случай.
Один из моих главных принципов – ожидай худшего, поскольку оно всегда возможно. Плохое случается со всеми.
Я всегда, в любых ситуациях думал о путях отхода. Лишаться Антошкиной дружбы я не хотел, хоть и не очень верил, что такое возможно в принципе. Когда Антоша начал рассказывать про Пилотов (да, именно так, с большой буквы), я решил, что это очередная его история, каковых, кстати, я уже достаточно давно от него не слышал – недели три Антон говорил исключительно о пустяках: школе, олимпиаде по физике, о том, как они с Людой Петровой ходили в зоопарк и встретили там Гошу Каминского, как Антошу чуть не покусала собака, испортив совсем новые штаны.
Петрова в его сообщениях меня, конечно, не порадовала, все остальное я пропустил мимо ушей. Я ждал, думая про себя: спокойствие, только спокойствие, Антон сочиняет. А то, что так долго, даже к лучшему – значит, будет бомба.
Но случились почему-то Пилоты. Совсем не бомба, так – слегка трассирующая пуля, не более. Некие не очень внятные, хотя и с большой буквы Пилоты в изумрудных скафандрах со сложными узорами посетили Антошу рано утром, на рассвете и рассказали много чего интересного. Из этого интересного я не понял практически ничего.
А дальше? – надеясь, что это затишье – перед самой конфетой, спросил я. Это все, ответил Антон. Слабовато что-то, подумал я, но не сказал и погрузился в нелепые размышления о том, что Черт каким-то образом подслушал мои заветные мечты о нашем с ним совместном творчестве, зазнался и испортился.
Здорово, наконец сказал я не очень уверенно, но Антоша неуверенности не заметил.
Внезапно я схватил за хвостик кое-что странное, но не сразу понял, что именно: Антон сидел на диване молча, ничего не теребил в руках – сложил их крестом на коленях и сидел, не двигаясь. Минут пять. Я чувствовал себя свидетелем настоящего чуда. Человек, который даже в школе не мог высидеть спокойно хотя бы один целый урок – вставал и ходил, с чем давно устали бороться все поголовно учителя, теперь сидел молча и не двигался.
Я боялся спугнуть это чудо, поэтому тоже замер.
Так мы играли в морскую фигуру на месте замри примерно час. Потом Антоша очнулся, вздохнул глубоко, схватил со стола пластмассового индейца, отломав ему при этом ногу и не заметив этого, поставил на место (индеец упал) и засобирался домой.
Я не стал его уговаривать остаться, хотя очень надеялся, что он останется и расскажет настоящую историю. Что он просто про нее забыл и сейчас вспомнит. Но Антошка судорожно натянул пальто, обулся (порвал шнурок на правом ботинке) и убежал. Чуть позже я обнаружил на стуле в прихожей позабытые шапку и левую перчатку. Догонять уже не было смысла.
Так и подмывает написать – и больше я его никогда не видел. Но это неправда. Видел и сейчас часто вижу, пусть и не так часто, как в детстве. Более того, я видел и самих с большой буквы Пилотов, но вперед забегать не буду, лучше по порядку.
Из-за того, что забыл у меня шапку и потерял правую перчатку где-то в транспорте, Черт надолго слег с ангиной. Я же за время его болезни скатился до совершенно неприличных двоек, особенно по математике.
Я чуть было не запаниковал, потому что, как мне показалось, наш Пистон начал догадываться, откуда у меня твердые тройки в прошлом. На каждом уроке он вызывал меня к доске, и я пыхтел, но старался, крайне, кстати, пораженный тем, что Люда Петрова мне подсказывает.
Пистон был туговат на ухо, подсказок не слышал, и я этим активно пользовался. Сначала я думал, что он что-то все-таки слышит, потому что периодически Пистон хрипло орал: «Не подсказывать!» – но потом понял, что это он по привычке.
Я слегка расслабился и стал спокойно переписывать на доску громкий шепот Петровой. Но Люда в математике понимала едва больше, чем я, а Пистон был безжалостен. «Что-то, Кружок, ты совсем стал никакой. Вялый, нерешительный. Заболел, что ли? Или это потому, что кое-кто другой заболел, а? Ладно, садись, три с минусом».
Я был очень близок к тому, чтобы возненавидеть этого едкого старика, я почти желал ему смерти. Какой же ты гад, Пистонище, думал я, идя к доске, чтоб ты сд... – и не додумывал, убоявшись собственных мыслей. Пистон старый, вдруг умрет? Кто тогда будет виноват? Я. А мучиться совестью мне как-то совсем не улыбалось. Ладно, думал я, живи, старый... не знаю кто. Только от меня отстань. Ну чего ты ко мне прицепился, я один, что ли?
Вызови ты хотя бы Петрову, эту нахмуренную пионерскую мамочку. Ходит вечно насупленная, дуется чего-то. Помогает, но дуется. Дуется, но все равно помогает. Спрашивается, чего ты дуешься? Что я тебе сделал? И помощь мне эта твоя... Нашла, тоже мне, сыночка. Еще, не дай бог, смеяться начнут. О свадьбе спрашивать.
Но никто не смеялся и не спрашивал – репутация скучного невидимки прекрасно на меня работала. Никто не обращал внимания. Меня это равнодушие грело.
Один из моих главных принципов: не желай чужого внимания, поскольку мало ли кто к тебе внимателен – а вдруг, скажем, Гитлер? Зачем тебе такое внимание?
Я старательно вел себя так, чтобы ни у кого не вызывать пусть даже минимального интереса.
Удавалось, но не всегда. Вот та же Петрова. Чего-то ей вдруг вздумалось проводить меня из школы домой.
– Денис, ты совсем не стараешься?
– Откуда ты знаешь мое имя?
– Не паясничай.
– Паяс, паяс.
– Фу, детский сад.
– Слушай, чего ты пристала вообще? Иди себе...
– Денис, мне не нравится, что все дразнят тебя Кружком. И я намерена это пресечь.
Признаться, я слегка обалдел.
– Зато мне нравится.
– Это неправда. Никому не нравятся прозвища.
– Слушай, чего ты лезешь?..
Люда не ответила. Я решил, что она обиделась и сейчас пойдет своей дорогой. Но она продолжала идти рядом. Мимо глухо прогрохотал троллейбус. Без всяких предисловий повалил крупными хлопьями снег – как будто наверху отжали паузу.
– Антон говорит, что ты очень хороший. Только стеснительный, – тихо сказала Люда каким-то непривычно непионерским голосом. Ну, началось, подумал я. Сейчас еще про любовь что-нибудь загнет, сразу вешаться можно будет.
Но Люда нахмурилась и посмотрела на меня почти злобно.
– Кстати, а почему ты ни разу Антошку не проведал? Трус, что ли? Лентяй, что ли?
Антошку, тоже мне. Рассюсюкалась тут.
– Не проведал и не проведал, тебе-то что?
– Ну и какой ты после этого друг?
– Не твое... – начал кричать я, но Люда меня перебила:
– Нет, мое! Мое собачье дело, понятно?
Я даже испугался.
– А ты хам, – тихо сказала Люда, и губы у нее задрожали. Я решил, что она сейчас начнет плакать, а муки совести потом мне ни к чему, поэтому я выдавил чуть ли не сквозь зубы:
– Прости.
И вдруг невидимый бес дернул меня за язык, и я зазвенел глупым колоколом:
– Ты что, влюбилась в меня, что ли?
Люда ответила не сразу. Она внимательно посмотрела мне в глаза и отвернулась.
– Не в тебя, – сказала Люда, и щеки у нее стали такого цвета, как пузики у снегирей.
И тут мне стало так больно и обидно, что я чуть не задохнулся. Я встал как вкопанный. Стоял и громко дышал ртом, наблюдая сквозь пар изо рта, как внимательно смотрит на меня Люда. Вот он, первый в жизни настоящий укол ревности!
Снег, словно издеваясь, повалил гуще. А она ведь красивая, подумал я. Особенно, когда смотрит вот так. Глаза такие зеленые, что кажется, будто бы светятся изнутри. Что же ты, Петрова со мной сделала, думал я, едва сдерживая слезы. Ты пробила насквозь мою защиту и сейчас видишь меня таким, каким никому, слышишь, никому...
И я побежал, тяжело бухая сапогами, потому что слезы хлынули и рыдания рванулись из горла, побежал, почти ничего не видя, прятаться от Петровой и, в первую очередь, от себя. Дурак влюбленный, думал я краешком сознания, и злился этим краешком во всю его мощность, но заливавшее все остальное сознание внезапное и неожиданное для меня самого горе было в разы сильнее, и я поддался ему.
– Денис! Дорога! – кричала Люда далеко позади, но я не слушал и продолжал свой неистовый бег, изо всех сил пытаясь увернуться от обидно жалящей прямо в душу огромной иглы любви-ненависти. Я бежал, тяжко топая, прямо на проезжую часть, пока меня не сбил аккуратно с ног подоспевший на помощь дядька в белой ушанке из кролика. Маленький влюбленный слон был самым постыдным образом повержен мордой в снег.
Любовь нечаянно нагрянет. Вот это про меня в тот день. Нагрянула и чуть не раздавила. Совершенно нечаянно, никогда бы не подумал, но так ощутимо. Как будто бы кто-то в троллейбусе (да хотя бы и тот мужик в ушанке!) уронил мне вдруг на ногу гирю 16 кг, только в данном случае вместо ноги другой орган – мозг, потому что в способность сумки из мускулов, гоняющей по организму кровь, развивать и хранить эмоции я не верю.
Люда конечно сказала мне, что я дурак. И что она испугалась. И что так нельзя. И что она и не подозревала, что я такой псих. Честно говоря, я и сам не подозревал.
В моей защите была, оказывается, ощутимая брешь. Даже не брешь, а хорошая такая дыра. Надо проанализировать.
Меня подняли, отряхнули, наградили крепким подзатыльником, поправили шапку (это все мужик в кролике), взяли за руку, отвели подальше от проезжей части, вытерли лицо чистым, вкусно пахнущим носовым платком (это Люда).
Внутри что-то звонко щелкнуло, и я тут же успокоился, – потаенный тумблер, связанный с моими эмоциями, вернулся в положение ВЫКЛ. Но прежняя моя обычная, на все случаи рассчитанная холодность куда-то подевалась.
Я все еще хлюпал носом, однако губам и щекам моим было как-то странно – они непривычно натянулись, и я догадался, что впервые, может, с младенческого возраста по-настоящему улыбаюсь. Как-то вдруг стало так хорошо. Я забыл и про тумблер, и про необходимость постоянно держать защиту, и про вообще все – даже про себя.
Злобный краешек сознания, из последних сил вцепившийся в прежнюю, такую удобную и уже вроде бы родную модель поведния, пытался что-то пищать про здравый смысл, только я не слушал.
Снег перестал, вовсю светило внезапное закатное солнышко, а Люда стояла напротив совсем близко и молча на меня смотрела.
– Не думала я, Денис, что ты такой нервный. Я знаю, это все из-за прозвища.
Я не стал ее переубеждать.
Я совсем успокоился и мы пошли проведать Антошку. И только через несколько дней я понял, что обознался. Принял за любовь воспаление самолюбия. Любить всамделишно, как выяснилось много позже, я не умел. Никого, кроме, разумеется, себя.
Антоша выглядел плохо. Хуже, чем я себе представлял. И я начал подозревать, что дело тут не в ангине. Вернее, не только в ангине.
Я вспомнил тот странный вечер, когда впервые услышал о Пилотах. Антон тогда как будто бы «завис», выпал из времени, хотя теперь мне казалось, что это я слишком близко к сердцу принял случившееся, преувеличил, раздул в памяти до небывалых размеров.
Что-то с этими Пилотами было не так – стоило о них подумать, как тут же становилось жутко. Сидя на табуретке у Антошкиной кровати, я попробовал их себе представить, как бы нарисовать в уме.
Антон, слабо улыбаясь, грел руки об огромную кружку с чем-то горячим и полезным и слушал Люду, которая пыталась ему рассказать, как я понимаю, все школьные новости вообще – по большей части, конечно, малоинтересные сплетни. Люда все-таки была обыкновенной девчонкой с обыкновенными девчоночьими интересами – не знаю, чему там Антон улыбался? Может быть, просто участию?
Иногда он коротко смотрел на меня, как бы уделяя мне внимание, чего я, совсем какой-то вялый и опустошенный, вовсе и не требовал. Конечно, он был мне рад, а я чувствовал себя неловко: Люда пожурила меня при Антоне, мол, друг называется, ни разу не проведал.
Антошка на эту реплику махнул миролюбиво рукой и пригласил нас широким, но очень слабым жестом присесть. Говорить он пока что не мог.
Мама Антона, тетя Шура, принесла нам чай с домашним печеньем, а сыну – его большую кружку, над которой лениво клубился густой желтоватый пар. Тетя Шура, кстати, еще жива, хоть и ровесница моей бабушки, а бабушка умерла в сентябре 94-го – я как раз пошел тогда в десятый класс. Антоша совсем поздний, как будто бы заблудившийся во времени и потому, наверное, часто болеет. А я вообще никогда не болел и к болезням относился с недоверием, считая их скорее придурью пополам с ленью.
Только вот Антошка выглядел на самом деле плохо. Я украдкой поглядывал на его чернющие круги под глазами, практически настоящие ямы с зимней водой на дне, и рисовал в уме Пилотов.
Пилоты у меня получились настолько живыми, что на миг мне показалось, что я вижу их на самом деле: три высокие зеленые фигуры с неуютно большими круглыми головами. Вот же уроды, подумал я, а потом до меня дошло, что они в скафандрах, только шлемы почему-то без всяких окошечек для лиц – сплошная тускло светящаяся поверхность, покрытая сложной сетью золотистых узоров, будто бы растительных – ветви, листья, цветы, но какие-то странные, я таких раньше точно не видел.
Узоры были не только на шлемах, но уже попроще, схематичнее. Центральная фигура стояла чуть ближе ко мне и каким-то не очень внятным жестом словно бы звала меня – иди сюда.
Продолжение следует.