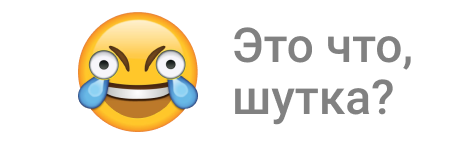Лоскутное одеяло (из книги "Война девочки Саши")
Лоскутное одеяло
Когда собираешь книгу по рассказам участников событий, то фраза, которая искренне тебя расстраивает и разочаровывает это «Я не помню». Как говорят мне многочисленные «дети войны»:
- Да чего тут рассказывать, жили и жили.
- Так мы ж не воевали, нечего и вспомнить.
- Давно это было, забыл всё.
Для них это давно прошедшие события, годы, которые не хочется вспоминать, время лишений и потерь, которое прикрывает туманом забвения милосердная память. Для нас – каждая сцена, каждая фраза, это золотая крупинка истины, которая нет-нет, да и блеснёт в сплошной массе пропагандистского песка.
Поэтому все, даже самые маленькие обрывки я собрал в отдельный рассказ. Его герои жили в Беларуси, России, Украине. Их всех объединила оккупация, война. И как лоскуты в самодельном одеяле, все их истории разные.
Павел Щуцкий (д. Лужесно, Воложинского района)
У меня в детстве был брат-близнец Пётр. Уже в апреле 1944-го мы играли на опушке леса. Подростки уже были, лет по четырнадцать, пятнадцать. А всё бегать хотелось, кричать, игры какие-то придумывать. Со мной брат был и ещё хлопцы. День к вечеру клонится, уже домой собираться надо.
А мимо немцы ехали на машине. Увидали нас, видно решили, что партизаны из леса вышли. Подкрались незаметно и с автоматов ударили. Петра сразу убили, на месте. Мы врассыпную, да разве от пули убежишь. Почти всех и убили. Я чудом выжил. В кусты прыгнул, не догнали меня.
Ирина Викторовна Душан (5 лет) (д. Буй, Сенненский район)
Как немцы пришли, так всех евреев из Сенно собрали в гетто. Огородили проволокой и заборами несколько кварталов, поставили охрану. Тех, кто жил в центре – выгнали из домов. Сказали – еврейские дома освободились – хотите, идите туда жить. Немцы всё говорили, что увезут евреев куда-то, то в Германию, то в Африку. На самом деле однажды ночью подняли всех, вывели за город, расстреляли и закопали в одной большой яме.
В ночь расстрела Сенненского гетто к деревне Буй тоже привезли несколько евреев. Заставили их самих копать себе могилу, потом расстреляли. Утром мы, дети, играли на окраине деревни. Возле старой заброшенной церкви и увидели, что среди камней прячется еврейский мальчик. Он ночью как-то сумел сбежать, когда расстреливали его родителей. Мальчик прятался под полом, вылез к нам через дыру.
Мы стали носить ему еду. То яйцо, то картошку. У самих много не было, но отдавали. Дети, что с нас взять. Несерьёзно всё это принимали, как игру. Родителям никто не рассказал – уже хорошо. Однажды пришли, а его нет. Немцы ходили рядом с церковью, он испугался, что мы его выдали и убежал.
Через много лет, уже взрослым мужчиной он приезжал в деревню, плакал над тем местом, где расстреляли родных. Благодарил тех детей, что кормили его.
Живёт сейчас где-то в Киеве.
Ирэнка (Ирэна Владимировна Копач, 6 лет, п. Гуденяты, Беларусь).
Ирэнка с нетерпением ждала сентября. Уже были готовы блестящие новые туфельки, которые отец сделал сам, красивое платье, новый портфель с букварём. Трогать букварь до школы не разрешалось, поэтому Ирэнка ходила вокруг яркой книжки, как кот вокруг сметаны. Ей не терпелось хоть одним глазком заглянуть внутрь, научиться читать, считать и другим очень важным наука. Подружки постарше постоянно хвастались на улице знанием букв, умением считать до десяти и складывать числа. Ирэнка тоже кое-что умела. Сложить два и два, к примеру. Но вот с буквами было совсем плохо.
- Ничего, - утешала её мать. – Вот пойдёшь в школу, там всему научат. Не торопись.
Ирэнка вздыхала, убирая в шкаф туфельки и платье. Скорей бы осень. В сентябре начнётся новая интересная жизнь.
В сентябре Ирэнка никуда не пошла, потому что в конце июня в деревню приехали немцы.
С этого дня прошло больше полувека, но обида на судьбу у Ирэны Владимировны не прошла. И в конце девяностых она с дрожью в голосе рассказывала внукам, как убрали подальше красивое платье, туфельки. Как мама со слезами отдала ей букварь. Но листать его уже не хотелось. По улице ходили чужие страшные люди, забирали из домов еду и приглянувшиеся вещи, школу закрыли, арестовали и увезли председателя.
В самом начале войны над Гуденятами летали немецкие самолёты. Люди разбегались, прятались по подвалам, кто-то мчался в лес. Один из лётчиков то ли захотел повеселиться, то ли решил сбросить оставшуюся бомбу. Взрывом разметало дом Копачей. Вернулись из леса – вместо хаты пепелище, даже печь разлетелась по кирпичикам. До конца войны ютились в уцелевшем сарае с козой и курицей.
Ещё через месяц немцы пришли и остались. С ними даже как-то спокойнее стало. От самолётов уже не бегали, не будут же они своих бомбить. Можно сказать, что местным повезло. Часть стояла тихая, без эсесовцев, без гестапо. Немцы даже платили продуктами, если кто-то соглашался поколоть дрова, принести воды.
Но всё равно было очень страшно. Страшно от мысли, что рядом живут чужие непонятные люди с оружием, что в любой момент могут отобрать, изнасиловать, сжечь. И некуда бежать за помощью, некому защитить.
А ещё Ирэнка никогда не простила немцам новых туфелек и букваря, сгоревших в пожаре дома.
Мария Михайловна Солдатова (3 года, д. Потока, Щучинский р-н)
У мамы было семеро детей, есть нечего, носить нечего, зима на носу, что делать – вообще непонятно. Она стояла во дворе, стирала в корыте какие-то пелёнки-распашонки. Мимо забора шёл немец, увидел, завернул и вывалил перед мамой целый узел белья.
- Стирай!
А вокруг мамы детей – как муравьёв. Все ползают, бегают, посматривают с тревогой на «гостя». Мама говорит:
- У тебя совесть есть? Посмотри – у меня руки уже болят, на столько детей стирать, а ещё и тебе. Не буду, иди себе.
А немец карабин с плеча снял, поймал младшего и к голове дуло приставил. Говорит:
- Хочешь, чтоб твои киндер без матери остались? Я сейчас этого пристрелю, а потом тебя. Стирай.
Пришлось стирать.
А уже осенью шли мимо какие-то конные части. Дождь идёт, грязно. Им надо было остановиться, завернули в деревню, соломы набрать. Нашли мало, разозлились и давай с крыш дёргать. Крыши-то соломенные были. В конце октября половину деревни без крыш оставили.
Ирина (Ирина Фёдорова, 4 года, посёлок рядом с Опочкой, Псковская область)
Во время оккупации немцы выгнали всех жителей из домов в сараи и хлева. В домах жили сами. Зимой было холодно, навертим на себя всю одежду, сверху ещё каких-то тряпок, одеял. Так и спим. Мама очень боялась, что я ночью замёрзну, прижимала меня к себе.
Однажды я играла во дворе, меня заметил немец, который у нас в доме жил. Поманил пальцем. Говорит:
- Скажи «Гитлер – гут».
Я молчу, страшно.
- Говори «Гитлер – гут».
Я от страха русский забыла, какое уж тут «гут».
Немец разозлился, схватил меня за ногу, поднял над колодцем:
- Говори «Гитлер – гут»!
Я ору, плачу, а он всё ниже меня опускает, голова уже в колодце. На мой крик на крыльцо вышел второй солдат. Наорал на моего мучителя, отобрал меня, отшвырнул в сторону, как котёнка. Я на четвереньки поднялась – и бежать. Пряталась потом от них, во двор выйти боялась.
Володя (10 лет, Невельский район)
В самом начале войны через город повели длинную колонну военнопленных. Они еле шли откуда-то издалека, было много раненых.
В центре города огородили колючей проволокой площадь. Конвоиры стояли по углам, в тени, а пленные – на самом солнце, в пекле. Стонали, просили пить. Над ранеными мухи целым роем кружили. Если кто умирал, его складывали отдельно, в кучку. За два дня кучка выросла до окон первого этажа.
Местные приходили к немцам, просили передать воду, еду. Наконец кто-то из немецких офицеров дал согласие. Но заходить внутрь запретил. Кидайте, говорит, через проволоку. Начали кидать. Банки с водой разбиваются, хлеб падает под ноги. Пленные бросаются на него, как звери, дерутся. А немцы рогочут, пальцами тыкают. Офицеру надоел этот бардак, он махнул рукой. Местных отогнали. А пленные не успокаиваются, шумят, дерутся, норовят ближе к проволоке пробиться, ждут, что им ещё что-то кинут.
Офицер поморщился и гавкнул по-немецки. Конвоиры дали залп прямо в толпу. Пленные шарахнулись назад. На земле остались с полдесятка мёртвых.
Василий (6 лет, Василий Машков, д. Бельково, Рязанская область, Касимовский район)
С самого начала войны мимо деревни потянулись длинные обозы с беженцами. Люди шли и шли на восток. Несли на себе то, что успели унести. Иногда самые неожиданные вещи, патефоны, стулья, портреты. Часто уже в сумерках стучались в окна, просили переночевать. Мать всегда впускала, старалась накормить хоть чем-то. Иногда на полу умещались по десятку человек.
Утром они прощались и уходили. Серые лица, запавшие глаза. Одинаковые в своём страхе, в своём горе.
Один раз на ночь остановились ленинградцы, вывезенные из блокады. Несколько женщин, девочка, закутанная по самые глаза. Мать, как услышала, что они из Ленинграда, мигом отправила Васю на печь. Шепнула:
- Сиди там, не спи! Я умаялась за день, да боюсь уснуть. Говорят, они там в Ленинграде людей ели.
Одна из женщин – очень худая, с большими печальными глазами услышала, подошла и тоже тихонько сказала:
- Не бойтесь нас, хозяюшка. Спите спокойно. Мы живых не ели. Только мёртвых.
Настя (6лет, Ларичева (Пташик) Анастасия Артёмовна, село Рыжевка, Киевская, ныне Черкасская область, Уманьский район) и Ваня Ларичев.
Фронт проходил совсем рядом с Рыжевкой. С первых дней сразу за околицей падали шальные снаряды, некоторые залетали и в село, секли осколками стены. Жители прятались по подвалам, копали глубокие ямы.
Немцы вошли в Рыжёвку ранним утром. Сразу же стали отбирать скот, тут же его убивали и варили в котлах и полевых кухнях. Чужих солдат было очень много. Через село всё тянулись и тянулись длинные колонны в серой форме. Останавливались, чтобы пообедать и шли дальше. По единственной улице с рёвом катились танки.
Тут же, не откладывая на потом, искали по хатам коммунистов и евреев. Коммунистов расстреливали тут же, около домов. Тела сбрасывали в неглубокую яму, хоронить запретили. Мол, смотрите все, что будет с каждым коммунистом, когда войска фюрера возьмут Москву.
Евреев вывели за околицу. Там техникой выкопали длинные рвы и сбрасывали евреев туда целыми семьями, вместе с детьми. А потом засыпали землёй. Закопали неглубоко, потом из рыхлой земли торчали ноги, руки, мёртвые лица. Откуда-то с других сёл привозили всё новые и новые еврейские семьи. Длинные траншеи, забитые телами и землёй, тянулись далеко в поле.
Ещё в поле стоял колодец, так и его забили евреями до самого верха. На второй день после расстрела Настя с матерью шли мимо этого колодца. По всей округе разносился тяжёлый запах, кружились мухи. И тут они услышали какой-то писк. Мать не испугалась, подошла к колодцу и увидела среди мёртвых тел убитую еврейку. На руках у женщины едва копошился и пищал крошечный младенец. Как он выжил эти два дня без еды и пищи, в колодце среди трупов – про это знает только Бог.
Ларичева вытащила ребёнка из мёртвых рук матери и строго посмотрела на Настю.
- Это твой брат. Слышишь? Это твой брат Иван! Ему полгода! Если будут спрашивать – всем так и отвечай.
Настя кивнула. Ей было всего шесть лет, но она поняла, что происходит что-то важное и мать нужно послушать.
Соседи, конечно, увидели младенца. Но всем селом сделали вид, что у Ларичевых всегда было двое детей. Никто не выдал. Ваня вырос в их семье. И только в конце пятидесятых, когда был уже взрослым, мать рассказала ему кто он и откуда. Ваня ходил потом к колодцу, плакал. Пытались узнать его настоящую фамилию, имя его матери. Но в неразберихе первого года войны никаких документов не сохранилось. Никто не знал даже откуда привезли еврейские семьи.
Так и остался Ларичевым. И был Насте ближе, чем многие кровные родственники.
DoktorLobanov (Павел Гушинец)
Группа автора в ВК https://vk.com/public139245478
И на Яндекс-дзене https://zen.yandex.ru/avdey
Уважаемые читатели. Проект книги "Война девочки Саши" близится к концу. Осталось всего девять дней, на данный момент собрано 72%. Ещё можно успеть поучаствовать. Книга выходит ограниченным тиражом для участников проекта в конце января 2019 года.
По всем вопросам писать сюда https://vk.com/public139245478