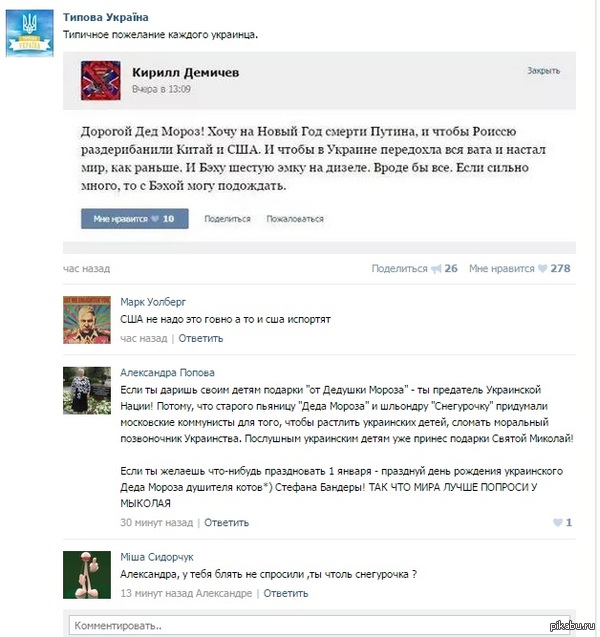Когда-то давно, будучи подростком, я очень любила Рэй Бредбери, да и сейчас люблю, но это не важно. У него есть рассказ: «Космонавт» там про семью, у них в космосе погиб отец и они стали избегать солнца. Так и я… стала избегать осени.
Я убегаю в конце августа, уезжаю в другие страны, на другие материки, в снега, в пустыню, в тропики, лишь бы не чувствовать на себе её холодного дыхания.
Я помню в первую осень, в первую осень после его смерти, я проснулась утром, открыла окно и вдохнула дождливый воздух. И потеряла себя, я не знаю, не помню, что было. Моя дочь была рядом и умоляла меня подняться, сказать ей хоть слово, хоть что-нибудь, а я не могла, не могла физически, меня душа боль, съедала изнутри. А она все была рядом, трогала меня маленькими теплыми и липкими ладошками и всё шептала: «мамочка, мамочка». Когда пришел Бред, он сообразил закрыть окно, сообразил, молодец он, мой Брэд. Унёс дочку, а сам пытался меня поставить на ноги, а я падала, не могла стоять, у меня даже слез не было, ничего во мне уже не осталось. Обнимал, утешал, прижимал к себе, он так любил меня, так сильно любил, мой Брэд… Я уже не смела искать в нём защиты, не смела искать в нём поддержки.
Я помню день, когда у моего мальчика вылезли волосы. Темно-рыжие пряди остались на подушке, а он этого будто не видел, тянул ко мне руки, проснувшись, и улыбался. А я всё смотрела на эти волосы, как они рассыпались по подушке, где изображены смешные мишки, силилась держать в себе слёзы, но безумно боялась прикоснуться к нему, к его коже, хотя больше всего на свете хотела прижать его к себе. И как он боролся, как боролся за жизнь, как улыбался сестре, когда она приносила ему уже в больницу поделки. Он был храбрым, мой мальчик, до конца храбрым, до конца сильным. А я нет, я – нет. Когда-то кто-то мне сказал, что когда мы теряем своих стариков - умирает наше детство, когда уходят наши родители - умирает наша юность. А когда мы хороним детей - мы умираем сами. Я улыбалась ему, всегда в любом случае я улыбалась ему, потому что ему нравилось, что я улыбаюсь. Он говорил, что я улыбаюсь, как мышка из мультика, и я улыбалась. Всегда, ведь мой сын меня просил. Я приходила домой и только лишь переступала порог - падала от боли, падала прямо на пороге, а слезы меня душили, спазмами, кашлем, я пыталась вытравить из груди боль, я молила провиденье дать мне сил уйти от боли, чтобы завтра я смогла снова улыбаться ему, как мышка из мультика. Мой Брэд относил меня на руках в спальню и раздевал, пытался кормить, я видела, что он поседел, осунулся, я видела, как дрожали его руки каждый раз, как он брал трубку звонившего телефона, опережая меня. А когда мы спали, он обнимал меня, прижимаясь крепко-крепко, боясь отпустить.
Я помню день, когда нам впервые разрешили остаться в больнице на ночь. Я смотрела на своего мальчика, он всё равно улыбался мне, а за спиной у меня стоял Брэд, держал на руках дочку. Вечером меня уговаривали лечь на кровать, которую поставили в палату, умоляли отпустить руку сына, а я не могла, я была уверена, что пока я его держу за руку, пока чувствую его тепло, пока слышу под пальцами его пульс – все будет хорошо. А эти трубки мешали ему дышать, я знала, что они помогают, но я не слышала, как он дышит, слышала только мерный писк приборов, а дыхания не слышала, поэтому и держала за руку. И как я налетела на моего Брэда, когда поутру обнаружила себя на кровати. Он сидел рядом с сыном, а я попросила его выйти и налетела на него, накричала. Он тогда впервые встряхнул меня, впервые постарался грубо привести в чувство. Он говорил про дочь, говорил про шансы, говорил про прогнозы врачей, а я в этот момент ненавидела его. Я преобразовывала внутри себя боль в ненависть, потому что не могла вынести столько боли внутри. И мне было легко его ненавидеть. И я благодарна ему за то, что он позволил мне это.
Я помню, когда мой мальчик сказал, что хотел бы щенка, и Брэд пообещал ему, что когда мы все вернёмся домой, то обязательно купим собаку. Я купила щенка на следующий день. Я тащила его по коридорам больницы за пазухой, маленького золотистого ретривера, а он скулил. Моя мальчик радовался, он попросил приподнять кровать, чтобы сидеть и мог гладить щенка, хотя ему было так сложно поднимать руку. Пёс попался умным, он не скакал по кровати, но тыкался носом в ладошки сына, лизал ему пальцы, а я хотела лишь одного - иметь право заплакать. До крови кусала себе щеки изнутри, чтобы держаться. Он решил назвать его Греем, я соглашалась мо всем. Пришедший доктор отругал нас, но сын попросил ещё пять минут и ему разрешили это. За эти пять минут пёс сделал лужу на кровати. И мне впервые за месяц позволили взять сына на руки. Он был невесомым, и мне было так страшно, но я была в тот момент счастлива, я держала сына у сердца, прижимала его к себе, и он улыбался. Доктор позволил нам прогуляться по коридору, и мы подходили к окнам, а позади шел Брэд, катая следом капельницу. За окном была осень, и уже тогда я ненавидела её.
Я помню, когда в половину четвертого ночи нам позвонили. Мой Брэд ответил на телефон, а я слышала, как останавливается моё сердце. Я знала, кто звонит и почему. Я чувствовала. Мы мчались в больницу, а я смотрела, как по стеклу катятся капли дождя. Он спал, когда нас пустили в палату. Я встала рядом на колени, взяла его маленькую ручку в свою. Кожа его была натянутой, гладкой как воск. Я знала, что он плохо нас видит, но проснувшись, он улыбался. Он сказал, прошептал, что от меня пахнет осенью, дождём и попросил, потрогать мои волосы. Я плакала, я не могла держать слёзы в себе, дышала ртом, чтобы он не слышал. А слезы с моих щек вытирал Брэд, который стоял рядом, крепко сжимая моё плечо. Когда я подставила голову, я чувствовала, как легкая рука моего мальчика легка на волосы, как он легонько ухватился за прядь. И почти сразу рука расслабилась, скатившись с моей головы, мазнула по щеке. Я в первый момент испугалась, потому что он мог почувствовать мои слёзы, но потом поняла... Из меня вырвали кусок, выдавили из лёгких воздух, я задыхалась, я кричала, но крика не было, потому что кричала моя душа. Я выла, а мой Брэд качал меня в объятиях, его слезы, падая на меня, прожигали мою кожу раскалённым свинцом.
Я помню, как держала щенка за пазухой, когда мы стояли на кладбище. Он притих, пригрелся и лишь изредка высовывал нос, чтобы потянуть морозный ноябрьский воздух. Я разучилась дышать, разучилась говорить, разучилась принимать реальность.
Дома я закрыла его комнату на ключ, я спала с дочерью в обнимку, она так же сопела носом и во сне тянула губы в улыбке, как и он. Признаться, я хотела умереть. Отправиться следом, куда бы там не было, но не смела. У меня была дочь, был щенок и мой поседевший Брэд. Я не имела права быть настолько эгоистичной. Я училась заново дышать, училась разговаривать, училась улыбаться и принимать мир. Я засмеялась следующим летом, моя дочь принесла мне рака-отшельника, когда мы были на море.
А когда мы вернулись домой, в одно осеннее утро я открыла окно и вдохнула пропитанный дождём воздух.
С тех пор я избегаю осени. Мой Брэд держался ещё полтора года. Но ушел, забрав дочь. Мы часто видимся, я очень люблю её, она потрясающая, с темно-рыжими волосами и такими же как у моего мальчика глазами, такими же, как и у моего Брэда, светло-серыми, как осеннее небо.
Я уезжаю каждый год в конце августа. В другие страны, на другие материки, в снега, в пустыню, в тропики, куда угодно. Лишь бы подальше от дождя, от хрусткой листвы под ногами, подальше от осени.