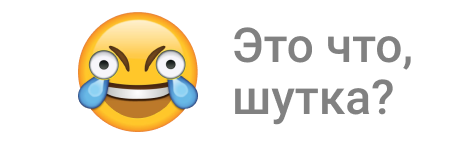Пятая рота. Под солнцем южным... Ночная жизнь
25. Ночная жизнь
Часов в одиннадцать пришел Скубиев:
- Не спишь, Сэмэн?
- Не положено, товарищ капитан.
- Я слышал, ты в шахматы играть умеешь?
Игрок я, конечно, еще тот, но комбата два раза обыграл. Правда, комбат во время игры думал не о шахматах, а о своем, мужском и командирском, но результат есть результат. Не проиграл же я ему?
- Я, товарищ капитан, без интереса не играю.
- А какой твой интерес? - оживился Скубиев.
- Банка Si-Si и пачка 'Принца Альберта'.
- Идет. Расставляй.
Скубиев играл неплохо. Просто я был в состоянии душевного подъема, которое у людей творческих называется вдохновением. После того, как мы среди ночи 'из ниоткуда' раздобыли тушенку и сгущенку, ко мне пришла уверенность, что мы с моим призывом можем вообще - всё! А кружка 'Дракона', выпитая после доклада дежурному по полку, придала дополнительный импульс полету моих мыслей. Казалось, что я вижу доску и фигуры насквозь и ходов на шесть вперед просчитываю ходы соперника. На восемнадцатом ходу Скубиев получил мат.
- Мат, товарищ капитан, - радостно показал я на доску.
- Вижу. Теперь я - белыми.
- Как прикажете. На что играем?
- На 'Хам'.
'Хам' - китайская тушенка в конических баночках, которые открываются не сверху, а сбоку: на специальный ключ наматывается узкая полоска жести от банки и банка открывается. Дороговатая вещь. Не для солдатского меню.
Зашел и комбат.
'Вот им не спится по ночам! Мне бы разрешили, так я бы часов шестнадцать продрых без задних ног!'.
- Играете? - спросил он нас.
- Да вот, Владимир Васильевич, - пояснил Скубиев, - дерет меня младший сержант и в хвост и в гриву.
Баценков глянул на доску, оценивая позицию:
- Я с победителем, - занял он очередь.
Скубиев побарахтался еще минут десять, но мои пешки упорно продвигались в ферзи. Белые пожертвовали коня, потом ладью, но третья пешка все-таки достигла первой горизонтали и перевес в силах стал колоссальным. Я с чувством превосходства посмотрел на капитана.
- А ну, дай я, - Баценков занял место напротив меня.
Мы расставили фигуры и началась сеча. Хорошо, что я не решился предложить сыграть на интерес: комбат играл заметно лучше меня. Дело было не в моих убогих мыслительных способностях, просто комбат играл в те шахматы, которых я не понимал. Я не понимал его игры, не понимал смысла его ходов, казавшихся мне глупыми и лишними. Я готовил атаку на его короля, а он, казалось, совсем не замечал этого, подвигая вперед крайние пешки. И вот, через два хода моя атака захлебнулась, еще через три хода мои фигуры оказались парализованными и нужно было думать кого приносить в жертву, а на семнадцатом ходу мой бедный король, зажатый между своими же фигурами, получил мат от коня.
- Разрешите еще партию, Владимир Васильевич? - мне очень хотелось отыграться, а еще больше хотелось понять: как такими 'ненужными' ходами ему удалось совсем связать мои фигуры так, что они стали мешать друг другу?
Вернулись в палатку Полтава и Каховский.
- Вы где шляетесь после отбоя? - повернул к ним голову Скубиев.
- А вы? - вопросом на вопрос ответил Каховский.
В самом деле: Распорядок дня обязателен для всех, от рядового до командира полка. Офицеры нарушают его сейчас так же как сержанты.
- Знаешь что, Айболит, - без злобы ответил Скубиев, - если ты будешь начальству в жопу заглядывать, то очень скоро посадишь зрение. Вопросы?
- Никак нет, товарищ капитан. Разрешите посмотреть на игру?
А что на нее смотреть? Я вкатывал уже вторую партию. Я по-прежнему не мог понять смысла ходов Баценкова: ну вот зачем он шагнул крайней пешкой сразу на два поля? Не на этом фланге я готовил атаку и у него основные фигуры не тут. Чувствуя скорый и неизбежный конец, я хотел дотянуть хотя бы до двадцать третьего хода.
- Давай, Сэмэн, жми! - подбадривали меня деды.
Ага! Куда жать-то, если я сам оказался везде зажатым?! Вот уже и мой слон полетел и вражеские пешки окружают моего королька.
- Ничья, - предложил комбат, - пойдем спать, Сергей Александрович. Бойцам тоже отдыхать надо.
Баценков поднялся и они вместе с начальником штаба пошли к себе в командирский модуль, давая 'бойцам отдохнуть'.
Вот только бойцы отдыхать не собирались.
Неделю назад они достали 'парадки' и теперь намеревались продолжить их усовершенствование, чтобы придать им неотразимый дембельский шик: то есть довести их до состояния полной неузнаваемости по сравнению с уставными образцами. В мое прошлое и позапрошлое дежурство Полтава перешивал фуражку.
'Отбить' фуражку дело одной минуты и совершенно нехитрое: поля фуражки сводишь под дно и ребром ладони несколько раз резко бьешь по тулье. Пружина внутри фуражки деформируется, выгибая саму ее седлом. Тулья приподнимается почти вертикально, поля обвисают и уставной предмет солдатского гардероба приобретает необходимое изящество.
Полтава не искал легких путей.
Первым делом он распорол фуражку и вытащил из нее козырек. Теперь у него в руках была бескозырка без ленточек. Смешная: с зеленым верхом и черным околышем. Этого показалось ему мало, он вынул пружину и распорол верх фуражки. Бескозырка превратилась в воронье гнездо. Две следующие ночи ушли на то, чтобы мелкими стежками собрать развороченную фуражку снова в бескозырку, но уже дембельского фасона. Прошлое мое дежурство Полтава резал и подтачивал козырек для того, чтобы под самое утро вставить его в сильно обкорнанном виде на место. К утру вышло желаемое: главным украшением дембельской фуражки с невообразимо загнутой тульей стал совсем крохотный козыречек, вертикально падавший на лоб. Повстречай я Полтаву в этой фуражке год назад, я бы оборжался над этой карикатурой головного убора - настолько нелепо она смотрелась бы в толпе нормальных гражданских людей. Но теперь, послужив в войсках, я удовлетворенно отмечал: 'Да, фуражка хороша! Второй такой нет ни у кого в батальоне, а может и в полку'. Оценка моя была тем более искренней, что во-первых не я ухожу на дембель и поэтому в чувствах моих нет места зависти, а во-вторых я-то сам видел сколько труда ушло на то, чтобы привести чудо-фуражку в вид далекий от первоначального.
Все то время, пока Полтава уродовал свой кивер я вертелся подле него. Не только оттого, что дедушке требовались то ножницы, то нитки, то напильник и я должен был все это находить и подавать.
Совсем нет!
Я - ума набирался. Полтава как и я - 'весенник', а, значит, через год я столкнусь с той же проблемой подготовки себя, любимого, к встрече с Родиной. А у кого еще и поучиться как не у деда? Вот и сегодня я ждал продолжения мастер-класса. Каховский со своей парадкой ушел рукодельничать к минометчикам. В шестой роте такую же парадку развернул на коленях Барабаш. По всему батальону сейчас в палатках и каптерках сидели деды и были заняты своим делом, следовательно, если Полтаве понадобится какая-нибудь мелочь - шило, клей или утюг - я, пробежавшись по батальону, легко это отыщу: какой дед откажет в помощи другому деду? Да еще и в таком святом деле, как изготовление дембельского наряда.
Что только не делают дембеля с формой!
Еще до призыва видел на вокзале двух дембелей. Судя по носам - с Кавказа. Свои кители они укоротили до того, что клапаны карманов свисали через пóлы. Лацканы и отвороты были обиты бархатом: у одного - красным у другого - синим. На свисавшие виноградными гроздьями аксельбанты ушло несколько бобин ниток. Вся грудь была увешана блестящими значками и вместо трех положенных - 'Отличника Советской Армии', 'Классности' и 'Бегунка' - сверкали все значки с прилавка ближайшего киоска, включая 'Ну, погоди!'. Не было, кажется, только 'Матери-героини'. Фуражки тоже были подбиты бархатом, а сапоги смяты геометрически правильными ромбиками и стояли на высоких каблуках. Тогда мне они показались двумя попугаями, выпорхнувшими из клетки через случайно оставленную открытой дверцу. Их вид оскорбил мои эстетические чувства, но это было тогда...
Сейчас, почти после года службы, я смягчил свое понимание красоты.
Во всем виновата унификация. За два года однообразие жизни и единообразие в еде и одежде достают до печенок и дембелям хочется хоть чем-то выделиться. Чтоб фуражка была не такой как у соседа. Чтоб китель хоть капельку отличался от уставного. Чтобы погоны не как у всех.
Кстати, сегодня ночью Полтава собрался делать погоны. Для этого он приготовил пару новеньких черных погон, метр дефицитной металлизированной ленты, которая пойдет на лычки, метр красной тесьмы и кучу полиэтилена. Я внимательно смотрел за его приготовлениями, тайно про себя надеясь, что метра блестящей золотом ленты Полтаве будет много и мне наверняка должно достаться сантиметров сорок. Полтава тем временем расстелил на моем столе газеты и включил в розетку утюг. Он нарезал полиэтилен небольшими кусочками так, чтобы каждый кусок закрывал погон целиком. Затем перевернул погон на столе, приложил к его тыльной стороне кусок полиэтилена, накрыл все это газеткой и провел утюгом.
Вонища пошла жуткая.
Полтава отнял утюг и потянул за газету. К газете прилип навсегда испорченный погон. Однако Полтава посмотрел на кусок газеты с прилипшим погоном удовлетворенно и тут же повторил операцию: наложил полиэтилен, прикрыл газетой и прогладил. Через несколько повторов у него получилось нечто похожее на торт 'Наполеон', только вместо коржей и крема были полиэтилен и газеты.
Противно в руки взять.
- Чего сидишь? Лопатку неси, - встрепенул меня дедушка, - держи крепче.
Я зажал саперную лопатку двумя руками, а Полтава, в очередной раз прогладив свою вонючую стопку бумаги, стал оборачивать ее вокруг черенка. Погон оказался сверху и когда расплавленная пластмасса остыла, то погон вслед за ней принял полукруглую форму черенка. Аккуратно отрезав лезвием все ненужное Полтава получил красивый черный погон полукруглой формы. Провозившись таким макаром еще с полчаса, он получил второй полукруглый погон - зеркальную копию первого. Распустив красную тесьму, которая в обычных случаях шла на лычки, Полтава, отмерив расстояние линейкой, стал наматывать шелковую нитку вокруг погона. Промазав нижний край погона клеем ПВА, он подождал пока клей просохнет и обрезал ненужные нитки внутри полукруга. Так же тщательно выверяя расстояние, Полтава наложил и приклеил три параллельных лычки. Вышло красиво: на черном материале погона сверкали золотом три лычки, между которыми просвечивал красный шелк. По обрезу погона были впечатаны желтые буквы 'СА'. Сочетание черного, желтого и красного цветов удовлетворило бы вкус самого утонченного художника. Все в полку - солдаты, офицеры и прапорщики - ходили в тряпичных погонах и я уже начал отвыкать от того, что погоны должны быть настоящие: черные для связи и красные для пехоты. Поэтому я с восхищением смотрел на произведение солдатского искусства вышедшее из рук старослужащего.
С моей, между прочим, помощью. Лопатку-то я держал!
Пока я ходил на доклад к дежурному по полку, Полтава успел обмотать шелком и наклеить лычки на второй погон.
- Дай посмотреть, - попросил я.
Полтава протянул мне один погон я и стал разглядывая вертеть его в руках.
- Красиво, - похвалил я погон и Полтаву одновременно, а про себя подумал:
'Через год и я буду вот так же погоны клеить... Господи! Еще целый год!!!'
От минометчиков вернулся Каховский. В руках он держал патрон от 'Утеса'.
- Смотри, что минометчики придумали, - Каховский показал патрон Полтаве.
- Ты первый раз такой красивый патрон видишь? - недоуменно спросил тот.
- Да нет, - отмахнулся Каховский, - ты прикинь: если отпилить тут, а потом распилить вдоль, развернуть и отбить киянкой, то получается лист чистой латуни!
Он всунул патрон между косяком и дверью и, надавив, вытянул пулю.
- А для чего тебе латунь? - не понял Полтава.
- Как для чего? - почти возмутился от такой недогадливости Каховский, - подставку для комсомольского значка выпиливать. Я сейчас у минометчиков две выпиленных и отшлифованных подставки видел - вообще классно!
- А ну, дай, - Полтава перехватил патрон, - где тут говоришь пилить надо?
Я вертелся тут же, разглядывая патрон и пытаясь понять: как это из патрона можно сделать подставку под значок? Но мне не дали постигнуть даже азов чеканки по металлу. Пришел дневальный-дух хозвзвода:
- Оу! Сэмэн! Забирай своего черпака.
- Блин! - Полтава с Каховским переглянулись, осмотрели кровати и увидели, что постель Гулина не разобрана.
- Он там обкуренный? - уточнил у дневального Полтава.
- Хуже, - вместо духа ответил Каховский, - он где-то ханки достал. Вот и
'ужалился'.
Я пошел за дневальным в хозвзвод: получать на руки своего дорогого черпака.
Из трубы над палаткой хозвзвода летели снопы искр, рискуя не просто демаскировать расположение, но и устроить пожар себе или соседям. Гулин сидел на табуретке в палатке и кочергой помешивал угли в печке. Поддувало было открыто, тяга уютно гудела, раскаляя печку до красна. Гулин сидел и тупо таращился на то как кочерга ползает по горящему в печке углю. Свет в палатке был погашен и красные блики из печки ложились на лицо оцепеневшего от наркоты черпака. Я уже научился понимать, что значат покрасневшие белки глаз и узкие зрачки, смотрящие в никуда. Они значат, что человек принял дозу, ему хорошо и его с нами нет.
- Пойдем, что ли? - я осторожно тронул Гулина за плечо.
Он, кажется, даже не заметил моего присутствия и продолжал водить кочергой в печке, не понимая что он делает и на что смотрит.
Я оглянулся на дневального, ища помощи или совета. Что делать с 'ужаленным' черпаком я не знал. Если повести себя неосторожно и каким-нибудь случайным пустяком, какой-нибудь невинной при других обстоятельствах мелочью, рассердить черпака, оглушенного наркотиком, то последствия могут оказаться непредсказуемыми. Мало ли что ему в угаре может придти в голову? Разнесет меня и полбатальона заодно, а утром скажет, что ничего не помнил. Воистину: не помнил, что творил. Только мне-то от этого не легче.
Дневальный-дух не знал чем мне помочь.
- Пойдем домой, - я тронул Гулина капельку решительней.
Гулин продолжал тупо смотреть на яркие угли и механически ворочать в печке кочергой. По его виду было непонятно: понял ли он меня, если вообще услышал.
- Подай воды, - тихо попросил он.
Я оглянулся на дневального хозвзвода, спрашивая глазами: 'Где у вас вода'. Тот развел руки, отвечая: 'Воды нет. За ней идти надо'.
- Подай воды, - снова тихо попросил Гулин.
- А где ее взять? - растерялся я.
- Как где? - этот вопрос был Гулину совершенно ясен, - в печке.
Он сказал это спокойно, как о само собой разумеющемся и даже обиделся на мою непонятливость: где же еще и брать воду, как не в печке?
Я снова оглянулся на дневального. Дневальный показал глазами на Гулина и помахал ладонью возле виска, дескать 'С приветом!'. Оценив обстановку как критическую я побежал за помощью к дедам. Полтава с Каховским на мое счастье не легли спать и рисовали сейчас эскизы для будущей подставки под комсомольский значок. Рисунки выходили красивыми и похожими на орден 'Отечественная война'. Вникнув в мое сообщение со всей серьезностью, деды пошли эвакуировать сбрендившего от наркотика черпака.
Через пару минут они ввели в палатку Гулина. Взгляд его бессмысленно блуждал по стенам палатки и он, казалось не узнавал места, будто зашел сюда первый раз в жизни. Налитые кровью глаза смотрели то на Полтаву, то на Каховского, но не узнавали и их. Деды заботливо подвели Гулина к его койке и он рухнул навзничь.
- Пацаны! Я - улетел, - доложил он прежде чем заснуть не раздеваясь.
Андрей Семёнов
Под солнцем южным...