Расшибёсси!
В детстве я ходила гулять с прабабушкой.
Ей было за 80.
У прабабушки ныли суставы и скакало давление.
Мне было пять лет.
Я тоже хотела скакать, как давление, а когда мне не давали этого делать, я ныла, как суставы.
Детский организм заряжен порохом любопытства. Он должен постоянно выстреливать салютом восторгов, это его рабочее состояние. Должен вскакивать с кровати и, подхваченный ликующим настроением, нестись навстречу приключениям.
Я так и делала. Просыпалась и выстреливала. Восторгом.
Но в любой инструкции к фейерверку написано, как это опасно. А фейерверк детских эмоций – в два раза опаснее. Для взрослых это накладно.
Потому что надо отложить свои дела и следить, чтобы дите – в данном случае я – не причинило вред окружающим и прежде всего себе.
Например, не упало со штор, катаясь на них, или не промокло, шастая по лужам.
Это классический конфликт интересов. И в этом конфликте обязательно должна быть пострадавшая сторона.
В моем случае каждая сторона считала себя пострадавшей.
Родители сердились на меня за то, что я в пять лет не веду себя продуманно и взвешенно, как взрослая женщина, и наказывали за то, что в моих поступках отсутствовала логика. Я же стояла в углу и дулась, не понимая, в чем вечно виновата.
– Ты зачем скачешь, как сайгак, по комнате. Ты видела, чтобы кто-нибудь из взрослых так скакал? Вон прабабушка сидит, читает Псалтырь. Не скачет.
«Прабабушка молодец и не скачет. Будь как прабабушка», – словно говорили мне и наказывали за то, что я не прабабушка.
Меня никто не слушал. Раньше вообще было не принято слушать детей. Их просто воспитывали
Глагол «воспитывать» включал в себя питание, проживание и запреты всего, что просит ребенок. Чтобы знал, кто главный, и ненароком не запутался в субординации.
В пять лет все мои прогулки были пробниками старости.
Я выходила с прабабушкой на улицу и садилась на скамейку с ее подругами.
Весь путь от квартиры до скамейки (а это пять шагов по лестничной клетке, потом лифт, затем три подъездные ступеньки) прабабушка для надежности вела меня за руку. Видимо, предполагала, что я и там смогу покалечиться. Полоумный сайгак способен сломать конечности даже в лифте.
Кстати, бабушкой был найден уникальный и естественный для бабушек способ снизить мою прыгучесть. Он назывался «раскормить».
Если довести ребенка до первой или второй стадии ожирения, то он сам не захочет прыгать. Захочет сидеть на скамейке, справляясь с одышкой.
Все бабушки на скамейке были в платочках. И прабабушка была в платочке. Если бы и мне повязали платочек, то я со спины совсем слилась бы с пожилым контингентом.
К ШЕСТИ ГОДАМ Я ОБРОСЛА НАВЫКОМ ОСУЖДАЮЩЕ ЗДОРОВАТЬСЯ С ПРОХОДЯЩИМИ ЖИЛЬЦАМИ, ПРЕЗРИТЕЛЬНО ПОДЖАВ ГУБЫ: «ЗДРАССССЬТИ!» – И МАСТЕРСКИ ПОДДЕРЖИВАЛА СТАРУШЕЧЬИ БЕСЕДЫ.
Пока мои сверстники играли в «Казаков-разбойников», прятки и догонялки, я, подперев ладошкой пухлую щеку, аргументированно рассуждала о том, почему бесстыжая Натка таскает с работы лотки с продуктами, ведь ее недавно перевели из столовой на склад, и чем намазано в гараже у дяди Толи, если туда слетаются как мухи все районные алкаши.
Иногда мы с бабулями весело смеялись беззубыми ртами. Если вдруг что-то казалось им смешным. Я их шуток не понимала и смеялась за компанию. По количеству зубов мы с ними, кстати, тоже совпадали: у меня еще не выросли, у них – уже выпали
Однажды во время наших старушечьих посиделок мимо скамейки пробежал рыжий Валерик. Он был лохматый, грязный и голодный, потому что рос в многодетной семье.
Многодетные семьи стояли на особом старушечьем учете, ибо плодили хулиганов и шалопаев.
На чумазую персону Валерика у нас имелось целое досье, полное компромата:
– Зачем Людка рожала четвертого в двухкомнатную квартиру, чем думала, шалава?
– Что за мода нынче держать в квартире больших собак? Это же как пятый ребенок!
– Невоспитанный Валерик давече с Петровной даже не поздоровался. Она ему: «Здравствуй, Валера!» – а он ей «здрасьте» пожалел.
– До четырех лет он вообще не говорил, думали, немой, а нет, выправился.
– Никого не слушает эта молодежь, зла не хватает, свою голову же не приставишь, прости хосподи.
Так вот, Валерик.
Он, в порванных на коленях штанах, спасаясь от кого-то бегством, несся к гаражам и делал это с таким азартом, столько ликования было в его глазах, что я, повинуясь какому-то инстинкту, заразившись его настроением, не удержалась, будто кто толкнул меня, спрыгнула со скамейки и резво побежала за ним.
Я бежала так быстро и так свободно, что мне с непривычки показалось, что у меня развеваются щеки.
– РАСШИБЁС-СИ-И-И!!! – тут же услышала я вслед прабабушкин голос, который воткнулся мне в спину холодным мечом.
Прямо вошел точнехонько между лопаток.
Я выгнулась пузом вперед, будто врезалась, будто меня и правда догнала ударная волна прабабушкиного возмущения, и неловко плюхнулась на пятую точку, тяжело дыша.
– Я ЖЕ ГОВОРИЛА!!! – закричала прабабушка, полыхая гневом.
Когда она меня ругала, то сразу молодела. Не скакало давление, не ныли суставы. Она становилась румяной, и ее голубые глаза перетягивали на себя внимание от морщин.
Я, ссутулившись, посидела в пыльной грязи секунд десять и понуро побрела к насесту.
Прабабушка ждала меня на скамеечной локации для публичной словесной порки за проступок.
Я шла к ней, отряхивая руки, и думала: «Вот зачем, зачем я побежала? Сидела же как человек, на радость прабабушке. Нет, надо же было сдриснуть. А Валерик! Он что, не мог обернуться и подождать? Нарожают четверых в однокомнатную, заведут собак, а потом от них выбегают невоспитанные и молчаливые валерики, на которых зла не хватает…»
Я покорно вернулась на скамейку со слегка виноватым выражением лица.
– Ну и куда ты, прости хосподи, понеслась? – спросила прабабушка.
Она перевернула мои руки вверх ладошками, увидела, что они пыльные от падения, достала старый желтоватый носовой платок, плюнула на него и стала вытирать мне ладошки от пыли.
Мне стало противно и брезгливо. У прабабушки во рту было уже совсем мало зубов, они сгнили, а два передних раскорячились, образуя заглавную букву «Л», и она ела много тертого чеснока, ибо свято верила в то, что если Иисус Христос не спасет ее от хворей, то это сделает чеснок.
Одно время она, яростно просвещая меня в вопросах веры, здоровья и нечистоплотности сотрудников собесов, так намешала четырехлетней мне понятия о том, что чеснок – это немного апостол. Другими словами, заместитель Иисуса в Департаменте здравоохранения собеса.
Собес прабабушка ненавидела. И я ненавидела его за компанию. Не может быть хорошим учреждение, в названии которого есть слово «БЕС». Прости хосподи.
И вот этими слюнями, полными гнилых зубов и чеснока, она вытирала мне руки.
Я захныкала.
– Тань, а что, может, побегала бы детка-то? А то что она с нами? К чему ей эти разговоры? – заступилась за меня тетя Тома перед прабабушкой.
Она пекла вкусные румяные пирожки с капустой и всегда меня ими угощала. Еще у нее жила подранная собаками кошка, которую она втихаря разрешала мне гладить.
Прабабушка запрещала мне приближаться к животным, потому что «у них лишай».
Я не знала, что такое лишай, но гладила кошку тети Томы со всей возможной осторожностью: если бы она заразила меня лишаем, то правда о моем гладильно-кошачьем преступлении просочилась бы до прабабушки, и она сказала бы строго:
– Я ЖЕ ГОВОРИЛА! – и помолодела бы на глазах.
– Ну и что это было? – строго спросила меня прабабушка. Адвокатирования теть Томы она сознательно не заметила. – Куда это мы покатились? Что тебе надо было от Валерика? Поваляться в грязи за гаражами? Явиться домой в порванных штанах? Чумазая? Научиться от шантрапы матом ругаться? Куда тебя понесло? Что ты ревешь? Нет, ну что ты ревешь?
Я не знала, почему я реву. Не понимала. Не понимала состава своего преступления.
Просто по лицу текли слезы, а я брезговала вытирать их «чистыми» ладонями.
– Это все Сатана! – вынесла вердикт прабабушка.
Это был главный ее диагноз, прояснявший предпосылки каждого моего проступка.
Прабабушка была очень верующая.
В ее комнате стоял богатый иконостас, блестевший «золотом» икон, около которого она молилась каждый день с четырех утра.
Также она ходила на службы в церковь и держала все посты. Это не сложно с двумя последними здоровыми зубами, которые будто прислонились друг к другу буквой «Л» и говорили: «Ладно, Лейте баЛанду».
(c) https://www.facebook.com/groups/1759927237620928/permalink/2...
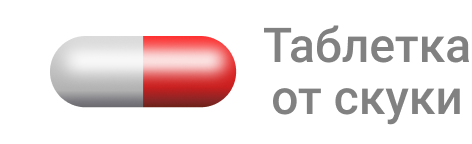
Мне было около 4-5 лет. Мама тогда разошлась с отцом и вернулась к своей матери. И жить мы стали втроём: бабушка, мама и маленькая Я. Мама много работала, а вот с бабушкой было невыносимо. Помню как В порыве обиды и жалости к себе билась головой о стену в надежде умереть. И тогда меня полюбят и подумают что я все таки была хорошей...
У меня тоже была прабабушка. И бабушка была. С прабабушкой мы ходили сидеть на скамейку возле парадной и иногда на площадку в 100 метрах от нее. На скамейке было весело. В кустах напротив было лежбище алкашей, среди которых был и дядя Валера. У дяди Валеры дома было несколько десятков кошек, одного котенка он мне даже подарил. Остальных котов можно было приходить гладить. В девятой парадной жила еще одна кошатница, но мне она не нравилась. Это была подруга прабабушки, ей было на мой взгляд лет 200. Во время войны этой бабушке оторвало обе руки из-за чего дома плохо пахло старостью, болезнями, котами и плохо проветриваемым помещение.
На площадке было еще веселее. Небольшой клочок земли блистал толстым слоем пыли, ржавой металлической горкой и качелями, скрип от которых разлетался на километры вокруг. С таким скудным инвентарем приходилось быть изобретательными и вы придумывали свои развлечения. За кустами по правую руку от входа был забор детского сада. Мы пролезали между прутьями и бежали на качели. Качели были особенные - они делали солнышко и влезало на них до шести дошколят.
С другой стороны площадки были кусты, в которых нас не было видно. Там мы жгли костры. Спички приносила Лера, чьи родители курили, а я приносила газетную бумагу, которая обычно предназначалась для кошачьего туалета. Почему-то нас не смущало, что эти кусты под окнами милиции.
С бабушкой было не так весело. С ней мы ходили на рынок, в магазин и сдавать стеклотару, которую она находила по пути. Никаких развлечений. А еще в отличии от прабабушки она не забывала, что гуляет с ребенком.
Конвой был всегда. Все мои друзья гуляли сами, а я ждала когда звезды сойдутся: самочувствие бабушек будет удовлетворительным, все неотложные дела будут закончены, а по телевизору не будет сериала.
Когда мне было 10 прабабушка умерла. Бабушка ослабила контроль, а я получила свободу. Можно было гулять одной, можно было ходить в гости... Но дома стало грустно и тихо, и больше не пахло пирогами с капустой.