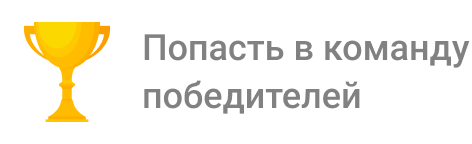Гробовщик
Иного сказать не получится – был Ефим человеком известным, да не только в своей деревне, но и парочке соседних. Шутка ли, единственный гробовщик. Только кто-то из сельчан Богу душу отдать сподобится – Ефим впереди попа торопится, домовину да саван справить. Сам сухонький, маленький, сгорбленный – ни дать ни взять кузнечик, по недосмотру в теле человеческом запертый. Бывало, если цену шибко ломил, злые языки могли и обмолвиться – дескать, самому Ефиму давно пора собственный товарец опробовать, чтобы знал, каких денег тот на самом деле стоит. Но громко не возмущались: деваться-то некуда, больше на двадцать верст окрест никто гробами не промышлял. С этим разругаешься – потащишься за домовиной в такую даль, что, покуда обратно вернешься, сам окочуришься.
Ефим-то, кузнечик недобитый, исключительность свою осознавал и невзначай всегда ею бахвалился. Вроде бы в глаза смотрит сочувственно, кивает, уголки глаз платком трет для красноты полагающейся – да только вместо жалости жадность из них глядит, гордостью приправленная. Кто ж вас, мол, без меня на тот свет проводит?
Так и шло год за годом, а уж последние два и вовсе для загробного мастера царскими выдались: сначала неурожай случился, да такой, что следом за коровами люди от голода падать начали, закапывать не успевали. А в пару к голоду неизменная подруга-болезнь пожаловала, уцелевших добивать. Обе деревни за эту пару лет обеднели на четверть душ людских, а Ефим соразмерно обогатился. Да так загордился, что начал уже в открытую нос задирать, и так нагло, что нет-нет, да и зачешется кулак у скорбящего тот самый орган подправить маленечко.
Но пока тумаки стороной обходили, потому как нужда в гробе новом то у одного, то у другого селянина возникала. А к приходу весны, когда болезнь отступать стала, напоследок свалила она того, на кого Ефим исподволь нетерпеливо уже давно поглядывал: бывшего городского судью, лет десять как от дел отошедшего и к родной земле вернувшегося. За службу свою он немалые деньги скопил, хоть, по слухам, и не брал взяток больше положенного и вообще вел работу свою на редкость честно (а потому изрядно удивлял количеством прожитых лет). Тратить в здешнем захолустье их было не на что, поэтому Ефим резонно предполагал судейские капиталы унаследовать путем оказания своих ценных услуг. Кружил, стервец, вокруг дома судейского едва ли не каждый месяц. И дождался: слег судья, и по всему было видать, уже не поднимется. Сам к себе Ефима позвал, что делом было редким – обычно-то за гробовщиком родственники или соседи посылали, а никак не подопечный. Но уж таким судья был, не все обычаи человеческие чтил – что со взятками, что с проводами на тот свет.
– Послушай, Ефим, – хрипло и тихо проговорил он, едва похоронных дел мастер в дверях показался. – Уж скоро мне на тот свет сбираться, о чем ты и сам лучше меня знаешь – чай, нагляделся что на померших, что на тех, кто готовится…
– Бог с тобой, Петр Сергеич, – забормотал положенное Ефим, – живи ты сто лет, еще, может, и оклемаешься…
Судья только рукой нетерпеливо махнул – не балаболь, мол, и без того говорить трудно.
– Нажил я прилично, – продолжил он, – да только не все поистратил. А передать, сам понимаешь, некому…
Ефим, понурившись, головой закивал, алчный блеск в глазах притушив.
– А потому такова моя воля предсмертная, – окреп судья голосом, будто приговор зачитывал. – Всю жизнь я честным человеком был, так пусть мое богатство честному люду и дальше служит. Про всех нас худое слово в деревне найдется, и ты тому не исключение. Однако ж дело свое знаешь, следуешь ему добросовестно, стало быть, человек надежный. Завещаю тебе, Ефим, дело такое: после смерти моей чтоб гроб справил лучший, что в своих закромах найдешь, а не найдешь достойный, так смастери. На саван не поскупись, в жизни я тряпками не бахвалился, а на том свете перед супругой щегольнуть охота. Проводы пышные справь, чтоб каждый сыт-пьян с поминок вернулся и скопидомом за глаза мертвые меня не кликал. А то, что от денег моих останется, себе забирай в оплату – на том свете, говорят, другие монеты в ходу.
– Чего ж ты, Петр Сергеич, старосту не попросишь? – осторожно Ефим спросил, в счастье свое поверить не смея. – Его это занятие – коли без родных и близких человек кончается…
– Староста на руку нечист, – нахмурился судья, – а тебя за эту руку никто покуда не ловил. Не желаю, чтобы делами моими посмертными те занимались, кого при жизни засудил бы, не раздумывая. Понял?
Ефим так закивал, что аж в шее хрустнуло. Судья усмехнулся.
– Ты от предвкушения барышей-то таких гляди, сам вперед меня на тот свет не отправься. Смотри, Ефим! Я хоть и стар уже, хоть и немощен, но судьей что здесь был, что там останусь. Обманешь, обдуришь, пожадничаешь – не поленюсь, призову к ответу. Честную службу сослужишь – с прибытком останешься.
Ефим вскинулся было объяснять да убеждать, но судья на подушки откинулся и задышал тяжело.
– Уходи, – просвистел. – Делом оправдаешься, не словами.
Противиться гробовщик не посмел, удалился. Всю ночь дома мечтам предавался, а утром прислали за ним вторично: скончался судья.
Никто Ефиму препятствий не чинил, когда тот, едва в дом войдя, прямым ходом к сундуку заветному направился. Успел, видать, записку старосте судья черкануть с распоряжениями своими. Так что мужикам только и оставалось, что зубами завистливо поскрипывать, да и то – вдалеке от ворот, а то негоже перед мертвым на деньги его зариться, чисто падальщики.
Ефима такие мелочи не трогали. Торопливо крышку откинул, средь тканей да безделушек руками заворошил. Тьфу ты, чушь какая – и зачем судье эти тряпки? Не иначе, женино наследство, выкинуть не сподобился. Кошель с монетами на самом дне сыскался, раза в три меньше, чем Ефиму в мечтах виделось. Гробовщик, глазам не веря, трижды сундук облазил, однако других денежных закромов не обнаружил. Кошель-то, справедливости ради, хоть и маленький был, да тяжелый: хватит и судье похороны добротные справить, и на прожитье прилично останется. Но не такими барышами Ефим душу свою грел, на другое совсем рассчитывал. Осерчал гробовщик.
– Вот оно, значит, как, – бурчал он, одежку из сундука со злостью расшвыривая. – Смастерю, Ефимка, гроб из лучших, да саван из роскошных, а в уплату возьми себе три гроша да судейское загробное спасибо! Ну уж нет, не для того я тебя, миленький, неделями высматривал, чтобы мелкой монетой мои старания окупились. Хватит с тебя и сосновой домовины, хватит с тебя и савана попроще. Супруга, чай, на том свете и так заждалась, ей плевать будет, какой на тебя наряд напялен. А мне всё экономия…
Подсчитав, какую выгоду сулит ему такое дельце, Ефим повеселел и окончательно в решении утвердился. Ничуть он не волновался, что селяне взропщут – о чем он там с судьей шептался, им двоим да Господу известно. С того света весточки не дашь, а с Богом свечой потолще договориться можно – слаба душа человеческая, отмолит грех свой. Лишь бы старосте судья в записке или на ухо не успел передать, как именно провожать его надобно.
В этом Ефиму тоже свезло. Никто не удивился, когда загробных дел мастер простейшим гробом тело судейское осчастливил, никто и слова не сказал, на худой саван глядя. Да и, по правде сказать, некому и заступиться было: судья один жил, один и помер, а с Ефимом лаяться дураков не было – если сейчас заработать не дать, так он в следующий раз с тебя три шкуры сдерет, выгоду упущенную настигая.
Проводы еще проще похорон вышли – два стола всего накрыли, да блюдами простецкими, бесплатными, по доброте душевной соседями пожалованными. Посидели совсем чутка и разошлись. Словом, не удались проводы, даже староста фыркнул недовольно – мол, не того человека судья отрядил делами такими заниматься, вот у него что ни похороны – так чистая свадьба, и плачут, и поют, и на своих ногах никто не уходит. Ефим, услыхав, елейным голосом осведомился, точно ли гробовщик в таких делах ничего не понимает. Староста, смутившись, леща урезал. С тем и разошлись.
Ефим, едва до дома добравшись, бросился монеты пересчитывать. Приятно оттянулся кошель на поясе, добротно звякнула кубышка, под горлышко наполненная медью и под половицу упрятанная. Так гробовщик рад был удаче своей, что и не спалось совсем: раз за разом сбережения свои вытаскивал, любовался да пересчитывал. Опомнился только, как полуночные петухи прокукарекали. Почувствовал, как глаза от хлопот да пересчета слипаются, а чуть закроешь – перед глазами монеты рябью веселой подрагивают, самое то под такое засыпать. Добрался Ефим до кровати да рухнул, минуты не прошло – захрапел.
Да через час проснулся, сам не понял, отчего. Будто кто толкнул. Заворочался недовольно, повернулся на другой бок, только глаза закрыл – в окно стучат. Любому деревенскому стук в окно посередь ночи – верный знак под печь залезть, но только не Ефиму. Ночью умирают часто, а в горе люди не разбирают, какой час на дворе. Позевывая, неспешно доковылял гробовщик до окна и отодвинул занавесь.
Судья выскалился приветливо, волосы мокрые приглаживая. Руку от головы отнял – а пальцы черные, то ли в грязи, то ли в глине, ногти под корень обломаны. Глаза мутные, но на Ефима цепко смотрят.
– Обмануть меня решил? – судья губы синие в улыбке раздвинул. – Не пойдет, Ефимушка…
Гробовщик так и попятился, плюхнулся на пол, замычав от ужаса. Судья голову к плечу склонил, да так ее извернул, как живой нипочем не сумеет.
– В деревнях двери запирать не принято, – шепнул покойник. – Значит, мне здесь рады…
Ефим попытался встать, но ноги не держали. Только и оставалось, что беспомощно слушать, как шаркает гость от окна до двери. Минуты не прошло – навис над Ефимом мертвец.
– С-с-спаси и сохрани, – пролепетал гробовщик, щепотью пальцы складывая и крестным знамением осенить себя пытаясь. – Сгинь, нечистая…
Судья фыркнул, головой тряхнув. На Ефима комья глины посыпались.
– Это я-то нечистая? – прошипел он, смрадом гробовщика обдавая. – Я обманом никогда не жил, на людском горе не наживался, чужого не присваивал…а вот ты, братец, мое себе забрал!
Ефим заскулил, трясущейся рукой указывая на половицу, под которой кубышка лежала. Судья руку перехватил да так сжал, что дыхание перехватило. У покойника силы, что у десятка живых, а холод от его пальцев мертвецкий…
– Мне монеты не нужны, – дыхнул он в ухо Ефиму. – Я за обещанным пришел. Отдавай мой гроб!
И, не успел Ефим в ответ что-то пискнуть, как холодные пальцы сомкнулись на его вороте и вверх потянули.
– Стой ты по-человечески, – брезгливо сказал судья, мертвыми глазами прямо в лицо Ефиму глядя. – Сумел набедокурить, сумей и ответить.
– А…не пришибешь? – еле вымолвил Ефим.
– Как пойдет. Разозлишь еще больше, пришибу.
– Да я…батюшка…Петр Сергеич…есть как раз гроб дубовый, тканью обитый, в таком и знатного господина хоронить не зазорно…
– Веди.
То и дело спотыкаясь – от ужаса и темноты попеременно – Ефим повел незваного гостя показывать свои богатства. Осмотр гроба судью устроил.
– Годится, – благосклонно кивнул он. – Тащи на кладбище.
Ефим затрясся.
– Ну? – недовольно глянул на него покойник. – В чем еще дело?
– Дак…тяжелый он…
– Вина твоя не легче. Тележку возьми, мне тебя учить? И пошевеливайся!
Спорить с мертвым – совсем не то, что с живым, поэтому Ефим и не взялся. Кое-как гроб на тележку водрузив, вместо коняки в нее впрягся и потянул. Тяжела, зараза, оказалась! Да и дождь, как назло, зарядил, холодный, весенний. Колеса в такт зубам стучат, собаки деревенские еще глотки в ночи продрали, не иначе как мертвеца учуяв. Бросить бы да деру дать – так на следующую ночь судья вдругорядь явится и тогда уж не пощадит. Обернулся Ефим разок – так взгляд мертвого ему самому чуть глаза не выжег. Нет уж, лучше гробом откупиться…
На кладбище дождь совсем уж припустил, Ефима так колотило, что телега ходуном ходила. Добрел кое-как до могилы судейской – та раскопана, само собой. На дне ошметки сосновой домовины виднеются. Да, совсем никудышный гроб Ефим состряпал, пары ударов мертвяку достало, чтобы выбраться. Знал бы, не поскупился.
– Вытаскивай, – прохрипел судья. – И новый на его место ладь.
Очень не хотелось Ефиму в яму прыгать, да выбора не было: сейчас сам не прыгнешь, так силой уложат, и совсем с другими целями. Впрочем, страх тут хорошую службу сослужил – так боязно было, что судья сверху земли накидает, что сосновый гроб по частям Ефим мигом выволок, опомниться сам не успел. Дубовый вместо него вниз брякнул, аж сердце зашлось – а ну как развалится? Да обошлось, эту домовину не в пример предыдущей сколотили.
– Готово, Петр Сергеич, – проблеял гробовщик. – Уютнее лежбища вам ни на каком свете не сыскать, ни на том, ни на этом…
– Для меня оба света едины твоею милостью, – нахмурился покойник. – Одежку скидывай.
Ефим так побелел, что цветом с луной сравнялся бы, если бы ту видать было.
– З-зачем?
– Меняться будем. Или ты думал, я про саван не вспомню?
Похоронных дел мастер так в ворот рубахи вцепился, будто ее черти на части рвут.
– Петр Сергеич, так у меня дома саваны царские имеются, даже с вышивкой, вам-то в самый раз будут…
– Нет уж, братец, – хмыкнул судья. – У меня мое отнял, так теперь со своим расстанешься. Живо раздевайся!
Делать было нечего. Кафтан, рубашка и штаны в руки судьи перекочевали. Ефим пуще прежнего задрожал – шутка ли, голышом на кладбище.
Судья презрительно на него, трясущегося, посмотрел, и саван через голову стянул. Бросил в руки загребущие.
– Надевай.
– Пощади, батюшка, – взмолился гробовщик. – Не хочу я вместо тебя в гроб ложиться, рано мне, путь земной не окончил…
– А хороший гроб-то, – заломил лохматую бровь покойник. – Зря противишься. Но не угадал ты, Ефимка. Мертвому мертвое, живому остальное. Меня прикопаешь – и иди себе. Хочешь, нагишом, хочешь – в саване.
Ефим от холода и ужаса уже так посинел, что и говорить почти разучился. Негнущимися пальцами пошевелил, в саван руки продевая. Тепла от него чуть, но без ничего совсем худо – до смерти застудишься, пока до дома доберешься.
– Очень он тебе к лицу, – похвалил судья.
И, не успел Ефим опомниться, как покойник его за край загробной одежи цапнул и к себе притянул.
– Запомни, проходимец, – прошипел в окаменевшее лицо гробовщика, – еще хотя бы раз кого обманешь…
Захрипел Ефим, забился. Хотел было побожиться, что ни в жизнь больше, да голос совсем пропал. Только и удалось, что просипеть что-то.
– То-то же, – заключил судья, отпуская Ефима. В яму неспешно спустился, умостился с удобством, насмешливо снизу глянул. – Крышку давай, нелюдь. И закапывай.
Едва мертвое лицо за крышкой гроба скрылось, как в Ефима силы взялись, благо, лопат на кладбище всегда в избытке. Живо он землей могилу забросал, еще и сверху с горкой накидал – лишь бы больше не вылез супостат. Покуда работал, аж вспотел, а закончил – так снова затрясло. Домой бы поскорее, от ужаса кладбищенского в тепло домашнее. Побрел, шатаясь что от пережитого, что от холода и усталости.
А деревня-то и не спала уже, собаками навостренная. Сквозь дождь оранжевыми мазками факелы угадывались, темные фигуры суетятся, перекрикиваются, вилами в небо тычут – чисто бесы. Углядели фигуру, с кладбища плетущуюся.
– Покойник! – заорал кто-то, по голосу слыхать, староста. – Петр Сергеич с того света судить идет!
В одном судья прав был – за душой грешок у каждого водился. Кому ж захочется, чтобы его суду предавали? Да еще мертвецкому, беспощадному, от такого не откупишься, не монетами – жизнью возьмет…
Заворчала толпа угрожающе, вилы в сторону Ефима направив.
– Да вы что, братцы – просипел тот, силясь голосу прежнюю силу вернуть. – Не узнаете?
Сам Ефим голоса своего не узнал, а уж селяне – и подавно. Весь в глине и земле, бледный как немочь, глаза бешено глядят, саван судейский на ночном ветру развевается – кто ж там будет приглядываться?
Следующий хрип для гробовщика последним был – от ужаса деревенские его в клочья разорвали.