Несовпадение. 2 глава (1 половина). (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
2 глава не умещается в один пост, пришлось разбить на 2 части
Грудная клетка на экране движется ритмично − расширяется, сжимается в два такта; вверх и вниз перемещается дуга диафрагмы; сердце словно трамбует брюшную полость − сплющится, отпружинит, и снова толчок. И все на одном месте. Легочные поля светлеют при вдохе и темнеют при выдохе, бронхи идут пучками слева и справа от аорты. Норма. Но есть что-то ненормальное в этой норме. Какая-то неясность. Возле левого предсердия. Дразнит. Пропадает. Что − невозможно разобрать. Похоже, это даже не на экране. На глазу повисла ресничка и мешает.
Дима поднес руку к правому глазу и потер. Все то же. Это не ресничка. Какая-то скобочка в легком. А с чем положили эту Горшкову? Бронхит? Ее смотрел Оброчнев. Верен себе. Всякое заболевание дыхательных органов − у него бронхит. Но на этот раз, кажется, угадал.
− На что жалуетесь?
− Кашель замучил, доктор.
Значит, допекло, раз объяснять надоело.
− Ну, покашляйте.
Горшкова завозилась за экраном, свела плечи и сухо покашляла.
На рентгеноскопию Эмма Ивановна привела двух женщин − эту Горшкову и еще одну, из гинекологического отделения, сильную, красивую, очень любопытную.
Эмма Ивановна, хотя проработала санитаркой у Ломова всю жизнь, больше всего на свете боялась облучения. Приведя больных, она тут же вышла в соседнюю комнату, а ей следовало бы быть здесь и следить за тем, чтобы ему не мешали. Больная из гинекологического заинтересовалась живой картинкой на экране, пристроилась сзади Димы и смотрела вместе с ним, наклонилась над его плечом, дышала в висок.
Он попросил ее отодвинуться, отключил аппарат, но позы не менял. Горшкова тоже не шевелилась − нет разрешения.
Все у нее в норме. Ничего подозрительного. А между тем с легким сердцем этого не запишешь. Проклятая скобочка. Прыгает, прыгает не усмотришь, что такое... А пить ему нельзя. Противопоказано. Медленно и плохо адаптируется после вина. Зрачок не расширяется. Юлька всегда обнаруживала это, − выпил ли он. Даже самую малость. Ни запаха, ничего, только зрачок узенький-узенький. «Дима, ты выпил». К ней надо было входить, как к пчелам: чтобы не пахло от тебя ни табаком, ни водкой. Пчелы набрасываются и кусают. Юлька не подпускала к себе близко.
Вчера, положим, он выпил сущие пустяки...
Странная вещь. Целый год в голове была тупость, а со вчерашнего вечера вертятся только Кевда и Лиля Бабаян, точно между ними есть какая-то крепкая, но неясная ему связь. Смешная она, Лиля... Ну ладно, хватит. Посидели в темноте, будем считать, что адаптировались.
Скрипнула педаль под ногой, засветился экран. Опять та же картина − норма. Только у предсердия − скобочкой неясность. А сердце-то как частит! Разволновалась. Ох, как мы! Кто она такая, эта Горшкова? Копировщица?
− Вы не волнуйтесь так. Ничего особенного у вас не нахожу.
− Я не волнуюсь.
Кому-нибудь другому скажешь. Посмотрела бы на свое сердечко! Нравится ему эта наивность: если сам не вижу, то и другие не видят. Удивительная штука − человеческое сердце. Самый чувствительный прибор груб в сравнении с ним. Даже на резкое слово реагирует мгновенно. Человек еще внешне весь спокоен, − спокоен его голос, взгляд, движения, а сердце уже бьет тревогу. Не зря, видно, поэты поместили в него трепетную душу?
Женщина наклонилась к нему, задышала в шею. Сил никаких...
А что с этой Горшковой? Стертый случай. Ничего не поймешь.
− Тамара, снимок!
Защелкали переключатели, загремела под его рукой металлическая кассета, темноту пронизали две вспышки, как молнии.
Все!
Из-за экрана выбралась Горшкова, маленькая, изнуренная, в черных штанишках до колен. Ждала, что дальше.
Стояла, не прикрывая грудь, вислую, пустую. Больна. И не на шутку.
− Мне идти, доктор?
«Что с ней делать? Пусть подождет, пока проявится снимок. Что он покажет?»
− Оденьтесь и посидите в сторонке.
Отошла к кушетке одеваться.
Вторая пациентка с готовностью скинула халат. Дима пошарил справа от себя по табурету рукой и не обнаружил запасной кассеты. На его замечание Тамара сказала, что пленки мало. Его это рассердило, он прикрикнул на нее, и она отправилась в лабораторию. Эта беготня с одной кассетой через рассвеченную соседнюю комнату раздражала. В Кевде у него под рукой всегда блок заряженных кассет − мало ли что может мелькнуть на экране! Успей только сделать придельный снимок. Он не раз просил Тамару заготовить к началу просвечиваний несколько кассет, а она бегала с одной, не желая ради него нарушать порядок, заведенный Ломовым.
Тамара принесла кассету, положила на табурет, помогла пациентке стать за экран и сама заняла свое место за пультом. Можно продолжать.
− На что жалуетесь?
− Ни на что, доктор.
− Гравис, − прозвучал из темноты голос Тамары.
«Гравис»! Отлично знает, что беременность по-латыни не «гравис», а «гравидитас», а все равно искажает. И он тоже хорош! Дурак! Как сразу не понял. Пора бы уже замечать такие вещи. Ну, посмотрим.
Скрипнула педаль под ногой.
Сердце великолепное. Легкие, как стеклышки. Это норма. Вот это норма. Тут и дурак увидит, что это норма.
− Повернитесь боком. Правым!
Какая чистота линий! До сих пор это волнует − сокрытое. Еще в пятом или шестом классе кто-то принес на урок ножку сокола с желтыми сухожилиями. Она путешествовала под партами, пока не очутилась у Димы. Пацаны грозили, шипели, а он не передавал дальше; тянул сухожилия за концы, толкал их назад под бурую кожу, и птичьи пальцы с кривыми когтями сжимались и разжимались. Не верилось, что движения живого так просты. Учительница отобрала ножку, а он все равно не слушал ее объяснений. Сжимал и разжимал свой кулак, не мог понять, кто же в нем управляет движениями.
Он не разобрался в этом до сих пор, хотя уже врач.
− Все в норме, − сказал он. – Можете одеваться.
Женщина легко спрыгнула с подставки пошла к кушетке, накинула халат.
− Спасибо, доктор.
− Будьте здоровы,
− Постараюсь.
И легко вышла из кабинета.
− И мне идти? − спросила Горшкова.
Как бы хотелось и ее отпустить с этим пожеланием здоровья, с каким провожает здоровых людей.
− Посидите, сейчас проявят снимок.
Он решил, пока проявляют снимок, заглянуть в книгу. По привычке повернулся налево, а очутился перед пустым местом. В Кевде при повороте налево перед ним оказывался большой стол с негатоскопом на всю длину − его собственной конструкции − и ряд рабочих книг на крышке негатоскопа. Здесь к столу надо пересаживаться. Книги Ломов держал в шкафу, запертом на ключ. Приходилось делать массу лишних движений и тратить зря время. Руки чесались многое тут изменить, но Дима − человек временный − ничего не трогал, ничего не менял. Принес только керамическую пепельницу.
Он поднялся, включил негатоскоп, направил свет на шкаф, открыл его. Нижние полки были завалены газетами «I’Humanite» и «Unita». Ломов прекрасно владел европейскими языками. В войну он попал в плен к немцам, в большой концлагерь, где кроме русских содержались французы, англичане, американцы, вошел там в группу Сопротивления, писал даже листовки на французском. Книг, изданных после пятидесятого года, в шкафу не держал. «В медицине, как и в искусстве, важно, не кто сказал последнее слово, а кто сказал лучшее». Этим красивым, но сомнительным афоризмом оправдывал свой старческий консерватизм.
Дима остановил взгляд на книге Рубинштейна и снял ее с полки. Найдя по оглавлению, что нужно, раскрыл книгу.
Он размышлял, читая, потом закрыл книгу и отодвинул ее от себя. Рубинштейн не ответил на загадку этой скобки у предсердия. Каждый раз после чтения медицинских трудов, к которым прибегаешь за помощью, появляется ощущение, будто подплыл к берегу, а он болотистый. Нога, ищущая опоры, погружается в ил, как в трясину, и не может нащупать твердый грунт. Приходится двигать ногами и руками, держаться на воде, плыть дальше, а в груди уже паника: некуда пристать. И у Рубинштейна ясное положение тут же оговаривается: «мысль не бесспорна», «оснований явно недостаточно», «утверждение проблематично» − море неуверенности и приблизительности во всем.
В Кевде эту приблизительность признают априори. Истина в медицине − многозначна. Если знаешь одну и прешься с ней напролом, в медицине ты просто опасен. Они съехались из Ленинграда, Москвы, Харькова, Киева, горластые и молодые, их, как знамена, осеняли имена их учителей, прославленных профессоров, но легко сошлись на этом принципе. Они были задиристы в спорах обо всем, что не имело отношения к медицине, в главном − серьезны и мудры, как старики Борода произнес однажды историческую речь: «Братцы! − сказал он. − Мы начинаем на пустом месте. Все хорошее и все плохое − наше. Валить не на кого. Мы − основоположники. Так будем людьми».
Эта шутливая речь, как ни странно, приходила на ум всякий раз, когда подмывало снебрежничать или поторопиться с выводом. Если сомнения не суммировались во что-то определенное, шли к товарищу: «О чем тут можно думать?»
Никакого апломба, напыщенности, самодовольной уверенности, что истина выбрала именно тебя своим пророком.
− Дмитрий Михайлович, в лабораторию.
Это подошла Эмма Ивановна. Грузная, расплывшаяся, с седыми прядями, выбившимися из-под косынки на виски, дышала шумно, как астматичка. Ждала, пока он двинется. Дима раздавил окурок в пепельнице и поднялся.
В лаборатории на столике под красным фонарем отсвечивали растворы в трех кюветах. Снимок Горшковой плавал в закрепителе. Подцепленная за уголок пинцетом, пленка щелкнула в воздухе, как странное и плоское существо. Тамара включила негатоскоп. Блики на мокрой пленке мешали, и не сразу можно было разглядеть, где эта скобочка. А! Прыгала, прыгала и допрыгалась. Хорошо, что сделал снимок. Очень полезно себе не доверять. Позволь он себе быть чуть самоуверенней, и ушла бы Горшкова с его напутствием: будьте здоровы.
− Тамара, взгляни.
Она придвинулась, прислонилась к нему вроде бы ненароком, подняла руку и, не касаясь пленки, повторила пальцами в воздухе контур скобки. Про себя он решил, что придет к ней в воскресенье, но, как всегда, был сдержан и не ответил на ее заигрывание. Мысль его была возбуждена другим и шла по следу. На самом деле, тонкая работа. Ведь ничего толком не видел, просто ощутил: тут что-то не так, норма − на первый взгляд. И Рубинштейн говорит, что выявить рентгенологически лимфоузлы левого легкого трудно. Рубинштейн, пожалуй, устарел. На ТУРе можно выявить вещи и более интимные.
− Я только не знаю, распух ли так лимфоузел или это опухоль в самом бронхе.
− Бедная женщина, − вздохнула Тамара и повесила снимок сушиться на бечевку, про-тянутую поперек лаборатории. − Ломов сделал бы бронхографию, − добавила она. Подсказывала деликатно, как поступить.
− Назначим день, я сделаю.
− Ты умеешь?
Его чуть обидело, что Тамара не очень высоко ставит его как специалиста. Хотя ее сомнения были небезосновательны. Человека судят по делам его, а Дима почти весь год, что работал в поликлинике, приходил тихо и незаметно, просвечивал положенное число грудных клеток и желудков и незаметно исчезал, в больничные дела не вмешивался и сам хотел лишь одного: чтобы его не трогали. Его не беспокоило, что производит на всех впечатление серячка. Только Виктор Борисович Ломов и Бабаян сумели каким-то образом сквозь пришибленность прощупать его профессиональную подготовку. Но теперь-то он работает в стационаре!
В рентгенологию он втянулся из-за легочных заболеваний, довольно распространенных у металлургов. Дима часто садился за рентген смотреть больного. У него, по мнению Бороды, обнаружился дар читать тени Коллеги этим пользовались, и постепенно он перестал вылезать из темного кабинета А две длительные специализации в Ленинграде и Обнинске превратили его в новую разновидность врача, которую признавали пока только в Кевде: терапевта-рентгенолога высокой квалификации, «доктора Хиросиму».
Придется доказать Тамаре, что не бездарь он и кое-что умеет.
− По-твоему, я безответственный тип? − спросил он.
− Гляди-ка! Ты становишься смелым. Мне это в тебе нравится.
Она улыбалась ему поощрительно. Знала, что он слышал ее слова о том, что в воскресенье будет одна дома, и старалась угадать по глазам, как он их принял. Улыбка была нервная, чего он раньше за ней не замечал.
− Скоро увидишь, смелый я или нет, сказал он, тоже улыбаясь, и вышел из лаборатории.
«Что-то вроде объяснения в любви», − подумал он.
Горшкова сидела на тахте, сгорбившись, в той же позе покорности, в какой оставил ее.
− Можете идти. Снимок хороший. Ничего страшного.
Она поднялась, поплелась к двери. Волосы забраны небрежно к макушке, между ними и воротом халата − голая шея, голо и вокруг ушных раковин: редкие прядки торчали в стороны с висков и шеи.
Дверь закрылась за ней.
Бедная женщина... Сколько лет он врач, а все не может привыкнуть к беспощадности медицинского приговора. Тамара слишком хорошо знает начала и концы. Может, эта опухоль еще и не злокачественная. Рано паниковать. Господи, какая-то нарастающая волна. За неделю четыре раковых больных. Один совершенно неожиданный: рак аппендикса. Металлургов больше мучили силикозы и заболевания печени. Рак был чепе. Потому что там молодые? Средний возраст − тридцать лет...
Щелкнула дверь. Это вошла Эмма Ивановна, остановилась у стола, дышала шумно.
− Грандесса просит вас в ординаторскую, − сказала она.
У Димы екнуло сердце. Он ничего не ответил, закурил. Он ждал этого: всплывет его запись в истории болезни священника, и последует разгневанный окрик. Скопцова могла бы пренебречь его заключением, − таково ее право лечащего врача, − но не пренебрегла, зовет выяснить отношения.
Эмма Ивановна взяла со стола пресс-папье и принялась разбирать его.
Возмущалась: все врачи, если им нужно, приходят в рентгенкабинет. Она провоцировала Диму отстоять порядок, заведенный Ломовым, а он не мог объяснить ей, что робеет, как мальчик, и к тому же не придает значения, кто к кому придет.
Она оставила пресс в покое, отошла в угол, что-то там искала, ворчала.
Ломов держался независимо: «Меня Гитлер не заставил под свою дудку плясать, а остальные и подавно». Когда произносит эти слова, щеки его вваливаются еще больше, глаза гневно сверкают. В лагере подпольщики хотели иметь своего человека в рентгенбараке, и Ломов выдал себя за рентгенолога. Он наловчился подделывать каверны на флюорограммах тлеющей спичкой, я несколько наших командиров продержались в туберкулезном госпитале с его «кавернами» до освобождения.
Когда Бабаян заведовал тут хирургическим отделением, они собирались к концу дня в рентгенкабинете отдышаться − Ломов, Бабаян и начмед Рытова. Дима, заходя иногда посоветоваться, заставал всех троих, присаживался, слушал, кто где воевал, кто где был, что с кем приключилось в жизни, о чем сплетничают. К Скопцовой старики относились настороженно: много себе позволяет. Диме были не по нутру разговоры о ней. Даже небрежный кивок ее в ответ на его приветствие волновал. Среди плёсских медиков Антонина Ивановна − властная, красивая, модно одетая − казалась ему человеком иной, высшей породы. Ломов и его друзья, люди матерые, не плясали под ее дудку, а все же оглядывались на нее.
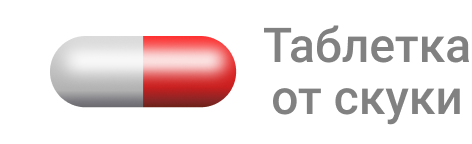

Все о медицине
10.8K постов39.3K подписчиков
Правила сообщества
1)Не оскорбляйте друг друга
2) Ув. коллеги, при возникновении спора относитесь с уважением
3) спрашивая совета и рекомендации готовьтесь к тому что вы получите критику в свой адрес (интернет, пикабу в частности, не является медицинским сайтом).