Несовпадение. 10 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
«Учитывая нарастающую слабость больного, прогрессирующий характер заболевания, повышение температуры до 39°, высокий лейкоцитоз и высокую РОЭ, отсутствие эффекта от интенсивной терапии антибиотиками, образование множественных полостей в правом легком (где они их увидели? Они видели их?), следует считать, что на фоне сердечной недостаточности у больного развилась фридлендеровская пневмония (как жмет, как жмет) с исходом в множественные абсцессы правого легкого, осложнившиеся экссудативным плевритом».
Под этим заключением консилиума стояли подписи трех врачей: Скопцовой, Оброчнева и Фоминой. Дима в удивлении прочел его и перечел. Больного, в сущности, бросили на произвол судьбы. Вытянет сам − отлично, значит, повезло, а свернется − ничего не поделаешь, медицина тут бессильна.
Фомина-то как подписала? Попика она вряд ли смотрела. Боится стационара, как огня. Даже на тот срок, что военкомат откомандировал Диму в район просвечивать допризывников, отказывалась заменить его в стационаре. «Что-нибудь не так, а потом расхлебывай!» А подписала! Что за легкомыслие!
Дима поднялся и направился через двор в поликлинику выяснить, в чем дело.
Фомина, маленькая подвижная веселая блондинка, обрадовалась ему.
− Вот и вы, мой спаситель, − сказала она. − Меня тут совсем затерзали.
Она весело щебетала про «эти ужасные дни» в его отсутствие: сколько амбулаторных больных, ни минуточки свободной за две смены, а тут ее дергают из стационара, пристают с такими сложными больными, хоть караул кричи. Как будто не знают! Она и Виктору Борисовичу говорила: ради бога, на меня ничего не взваливайте, я ничего, кроме грудных клеток, не умею. Нет, больше она ни за что никогда не останется одна на всю больницу. Такую ответственность на себя брать! Ну, теперь у нее гора с плеч.
Дима дал ей выговориться, а потом спросил про попика.
− Я же вам говорила: от всех стационарных больных я отбоярилась, как могла. До вашего приезда.
− А почему стоит ваша подпись?
− Ах, да! Ну! Вспомнила, вспомнила! Это чистая формальность, Дмитрий Михайлович. Вся канцелярия была на мне в ваше отсутствие. Антонина Ивановна позвала меня. Больше некому. Что-нибудь не так? Ну, не смотрите на меня волком. Ах, я дура, вечно что-нибудь натворю.
Ее легкомыслие поразительно. Канцелярия...
− Успокойтесь, все так, − сказал Дима, подымаясь.
− Ах, Дмитрий Михайлович, вы испугали меня насмерть, − веселое настроение тут же вернулось к ней. − В наказание подежурьте сегодня за меня вторую смену. А то у меня дел уйма!
Дима пообещал, сделал шаг, ударился плечом об аппарат, чем очень рассмешил маленькую Фомину. Она смеялась заразительно и звонко, забыв, что за дверью больные, страдание, но под его взглядом оборвала смех.
− Ой, мне смешинка в рот попала!
Он шел, задумавшись, по коридору больницы, а в ушах еще звучал смех маленькой Фоминой. Что с нее взять, с этой щебетуньи? Не подозревая, подписала черт-те что. Возможно, смертный приговор. Выполнила канцелярскую формальность. Сделала любезность Антонине Ивановне. Нет у попика ни фридлендеровской пневмонии, ни абсцессов. Правды Скопцова слышать не хочет. Да знает ли он, Дмитрий Кичатов, правду? В чем она? Он может только отрицать то, что другие выдают за правду. Он может отрицать ее диагноз, но не знает, где настоящее заболевание.
На лестнице он столкнулся с Оброчневым.
− А, привет! − обрадовался тот. Губы его растянулись в улыбке, обнажив косые зубы среди них синеватые, пломбированные.
− Илья, что тут произошло?
А, так вы уже в курсе? Антонина Ивановна обратилась к коллективному разуму. Ибо в «Отче наш» сказано: «Не стыдись обратиться к коллегам за советом».
− Страхуется.
− «Береги авторитет свой» − заповедь пятая.
− Да перестаньте. Что Александр Иванович? Худо ему?
− Пусть молится своему богу.
− Не могу понять, что у него.
− А кто может?.. Загляните к преподобному. Он тут всех извел: где вы? Чем это вы его умаслили?
− Илья, иногда важно вернуться к тому месту, где была сделана ошибка. Если идти дальше, потом уже нельзя вернуться. Это все очень складно выглядит, что вы написали и подписали, а ведь это ложная картина заболевания. При нашем незнании собственной природы вносить в диагностику ложь из каких-то соображений − преступление.
− Невежество − не преступление. Мы не знаем, что у него.
Он направился было по коридору, но вернулся.
− Приходите ко мне завтра в пять вечера. Прихватите с собой мою крестницу Лилю. У меня есть бутылочка киндзмараули! Привезли из Москвы. Посидим, поболтаем. Лидуша будет вам рада. − Говоря это, он смотрел куда-то поверх Диминого плеча. − Договорились? Салют!
Диме показалось, что за этим приглашением что-то кроется, и он согласился.
Только зашел Дима в палату − и отпрянул: на него с перекошенным от ярости лицом кинулся больной, выставив вперед руку со стеклянным стаканчиком.
− У меня язва! − закричал он. − Не успели положить, уже на тот свет торопитесь спровадить, товарищ главный врач.
Дима инстинктивно перехватил стаканчик, поднес его к лицу − в нос ударил специфический запах валокордина. При раздаче лекарств сестра, наверное, перепутала. Ничего страшного от валокордина с желудочником не случится.
− Скажите сестре, она заменит.
− Скользкие, а не катаетесь! Вы меры примите. В шею таких отсюда!
− Я такие вещи не решаю, я не главный врач, − сказал Дима.
Язвенник выхватил у него стаканчик и поставил к себе на тумбочку − вещественное доказательство! Он был из тех эгоцентричных типов, что всегда обнюхивают или пробуют на кончик языка, а потом уж съедают или выпивают. Не дай бог, если каша горчит или пересолена, − вымотает всем душу. Он свирепо давил кнопку звонка, вызывая сестру. Остальное перестало для него существовать.
«Преподобный» и впрямь обрадовался Диме. В глазах его светилось что-то знакомое, волнующее, жалкое и преданное, ищущее защиты. Такая улыбка, робкая, едва-едва зарождающаяся, готовая каждое мгновение − чуть пугни − исчезнуть, возникала иногда на обращенном к нему лице Лили.
Когда Дима сел на табурет между койками, отец Александр устало и благодарно прикрыв веки, из уголка глаза вытекла слеза, превратилась, упав, в мокрое пятнышко на подушке. Дышал он тяжело, с хрипом и свистом.
− Видно, не выйду отсюда, − пожаловался он. − Нет, не выйду.
− Бросьте об этом думать.
Рука Александра Ивановича протянулась за носовым платком, упала поверх одеяла, мозолистые наросты на указательном пальце, накусанные, янтарно желтели. На лбу синели вены, губы запеклись, каштановая борода скаталась, а у самой кожи еще больше пожелтела.
Язвенник, как зверь в клетке, метался возле койки, что-то рычал, терзая кнопку.
− Господи, как одинок человек!
Не жалоба это была − почти стон вырвался из губ Александра Ивановича. У него был жар. И, видно, хуже жара мучала пылающая, как солома, мысль. Кому остановить эту лихорадку, эту переоценку?
− Там еще ничего, − Александр Иванович качнул головой в сторону окна, − там еще ничего... там люди сообща... Всю жизнь лелеешь связи, а сюда слег, и рвется все, как паутина... Вот только пупок. Пощупаешь его... То была, скажу вам, крепкая связь!.. Единственная... Отсекли пуповину и бросили в одиночество... Как посередь моря нет берегов...
Дима слушал его горячечные высказывания, отрывки фраз на коротком дыхании и не знал, чем помочь... Объединяла этого человека с кем-нибудь общая мысль, общее дело? Религиозные догматы он вряд ли принимал, а то, что называл верой, ворочалось у него в груди немо, без языка.
− Вот умру, доктор... уж вы меня не утешайте, ведь умру... а не знаю, жил я или не жил.− Он повернулся к Диме лицом, глаза его возбужденно блестели. − Вы мне скажите, жил я или нет?
− Что вы себя зря мучаете, Александр Иванович? Все мы хотим понять жизнь, через себя, через свой опыт, да разве многим это удается? Гениям разве.
− Вы меня утешаете, доктор.
Отец Александр откинулся на подушку,− тело его ослабло, сплющилось в постели,− сник, притих, ушел в себя, точно пробегал мыслью свой путь от первой минуты до нынешней и пытал: жизнь это или нет?
Россказни о вечной жизни в раю отцу Александру не нужны, ибо цеплялся он за жизнь здешнюю, думал о ней, о смысле ее, полагая ее единственной. На небесах, он знал, ничего нет.
Как ни сострадал ему Дима, как ни грустно ему было, а увидел себя со стороны. Что за смешное положение? Какая ирония: умирающий поп исповедуется перед ним, как перед своим духовником.
Дима собрался было, не тревожа отца Александра, удалиться, но в это время в палату стремительно вошла Скопцова в сопровождении сестры, направилась к его кровати, но увидела Диму и застопорила. Какая-то необычная. Его удивление все росло, пока не сообразил, что она перекрасилась. Перекрасилась хной. И сделала перманент. Новая прическа, короткая, красноватая, омолодила ее.
− Что тут происходит?
− Я требую главного врача,− закричал, наступая на нее, язвенник.− Сколько можно звонить? Замуровали, и никого не дозовешься!
− Я заведующая отделением.
− Прекрасно! Тогда поглядите! Можно мне это пить? − Он ткнул ей в руку стаканчик с валокордином. − Травить вздумали!
− Не хулиганьте! Вас положили лечить, а не травить!
Она, как всегда, была строга, но строгость сейчас как-то не вязалась с ее внешностью. За стенами больницы она другая, мягкая и счастливая, и глаза, вероятно, горят по-иному, когда мужская рука гладит эти волосы.
Она поднесла стаканчик к носу, кося глазами в сторону Димы, и тут же опустила его.
− Нечего шуметь. Это именно то, что вам прописали.
− Мне Илья Демидыч прописал соляную кислоту, а это какая-то вонючая отрава.
− Какой вы Фома неверующий! У меня самой болит желудок, вот я и выпью.
Она действительно выпила валокордин, передала посуду сестре, и та зажала ее в руке, будто удалось ей наконец заполучить то, что потеряла.
− Вот, − сказала Скопцова. − Стала бы я пить, что нельзя? Замените ему лекарство,− прикрикнула она на сестру, и та сразу кинулась вон. − Я так и знала, что это больное воображение. У меня в отделении не может быть таких вещей!
Повернулась и ушла. Язвенник ошарашенно уставился на белую дверь.
Дима не мог смотреть в глаза Александру Ивановичу: он-то знал, что в стаканчике был валокордин. Зачем она сделала это, выпила из посуды больного? Выдала правду за ложь. «У меня в отделении не может быть таких вещей!» Если понадобится, всех запутает, докажет, что черное − это белое.
− Вот это да! − опомнился язвенник.− Тут пропадешь!
Он опустился на койку все еще в легком шоке. Было почти физически ощутимо, как он, приходя в себя, смиряется с новым состоянием, с не им установленными больничными порядками.
«Может быть, это из-за меня? − подумал Дима.− Бели бы меня тут не было, она бы не нервничала, не делала ошибку за ошибкой. Или это срывы, не ошибки? Она знала, что там валокордин. Испугалась жалобы? Жалоба больного − чепе, плохой показатель работы. Она поступила, как милиционер, который скрывает неприятное происшествие на участке, потому что отсутствие происшествий − хороший показатель».
Валокордином этот тип не отравится, но проще было ведь извиниться, а не спасать честь мундира. Лгать из-за такой мелочи! Скопцовой и в голову не придет, что поступок ее не доблесть, а преступление. Галилей где-то говорит у Брехта: «Кто не знает истины, тот просто невежда, но кто знает ее и выдает за ложь, тот преступник». Что за странный вывих в психике этой бабы?
Александр Иванович или не заметил, что произошло, или сделал вид, что не заметил.
− Святой она человек, Антонина Ивановна,− пробормотал он.
Дима сидел на пне у тропы, чтобы держать в поле зрения пролом в заборе, вертел в руке веточку. Он долго бродил по лесу, по заброшенным тропкам, по лужайкам в белых ромашках, пробирался сквозь орешник, но лес сегодня не радовал. Раздражал чем-то. Дима прислушался и вдруг понял, что его раздражает: лес молчит. Тихо. Весной тут полно было криков, хлопанья крыльев, страсти, движения, деятельности, а теперь − только беззвучная возня в кустах. После дождя земля подсохла, но воздух был насыщен испарениями, тропинку то и дело переползали большие пауки, высоко между кустами летали мухи, голубые стрекозы, бабочки. Сорвался с верхотуры желудь, пострелял по ветвям, глухо ударился о землю. В парной духоте закричал ка-кой-то бунтарь, испугался собственного крика и смолк. Нет песен, когда все сыто и довольно.
В проломе забора показалась Лиля с черной сумкой. Перебралась на эту сторону и, увидя Диму, пошла по тропе пружинисто, с ходу огорошила его:
− Ко мне привязался сейчас какой-то идиот. Я огрела его сумкой – отстал: «Чего сразу драться? Сказала бы, что не хочешь, − пойму». Ты же понимаешь! Чего они, гады, ко мне пристают?
− Я тоже к тебе пристал.
− Ты не гад. Ты мой любимый. К остальным у меня дикое отвращение. Едешь в автобусе, какой-нибудь кретин прижимается, − мерзко до тошноты.
Она подвела ресницы карандашом, в уголках глаз косые штрихи – орбиты от этого казались больше. Она ведь не красилась раньше.
− Иди-ка сюда. Присядь.
Присела на корточки. Одним пальцем он осторожно стер карандаш.
− Не мажься.
− Я хочу быть красивой. А то не будешь меня любить.
− Ты и так хороша.
Он опустил руки на ее голое плечо, потянул к себе. Но Лиля вывернулась.
− Слушай, Дима, чего тебе хотелось час назад?
Час назад он был далеко в лесу и жевал кислый листок щавеля – со вчерашнего дня во рту ничего не было.
− Жрать, − сказал он.
− А чего именно тебе хотелось?
Когда жевал щавелевый листок, мерещился ломоть чайной колбасы, влажный и розовый.
− Чайной колбасы. Прямо исходил слюной, так хотелось чайной колбасы.
− Нет, − сказала она. – Это становится положительно интересно! Представляешь, сижу дома, ем колбасу, жую так себе. Ты же знаешь, я не обжора. И вдруг чувствую в себе желание слопать всю колбасу! Ты не представляешь, что это такое! Со мной никогда такого не было. Давлюсь от жадности, а знаю, что это во мне не мое, это чужое желание, и сколько ни буду есть − не наемся. И я подумала: где-то бродит мой Дима и страшно хочет колбасы. Я быстренько завернула ее в газету и − вот. Смотри.
Она достала из сумки сверток, развернула газету, в ней розовела колбаса, еще влажная на срезе.
− Так ты на самом деле хотел колбасы?
− Да. Тогда хотел.
Но есть он отказался, и она спрятала сверток в сумку.
− Мне просто страшно, что я позволяю тебе крутить собой. А кто ты такой, позволительно спросить?
− А ты знаешь, кто я?
− Кто ты?
− Я…
− Нет, кто ты?
В словах, только что произнесенных, было знакомое, тревожное. Где? Когда он слышал их? Во сне, который никак не вспомнишь.
Он поднялся и шагнул к Лиле.
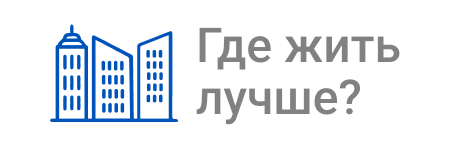

Все о медицине
10.8K постов39.3K подписчиков
Правила сообщества
1)Не оскорбляйте друг друга
2) Ув. коллеги, при возникновении спора относитесь с уважением
3) спрашивая совета и рекомендации готовьтесь к тому что вы получите критику в свой адрес (интернет, пикабу в частности, не является медицинским сайтом).